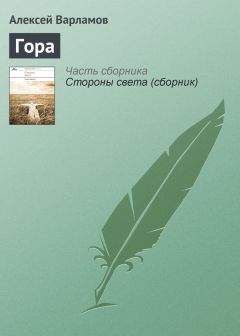Александр Проханов - Красно-коричневый
Он увидел слуховое окно, козырек над крышей. Приблизился, огляделся. Окно выходило прямо на проспект, в сторону гостиницы «Украина». Там, под кровлей, в темноте, было бы удобно оборудовать огневую точку, удобную для длительного наблюдения, безопасного выжидания, точного направленного удара.
Хлопьянов потянул раму окна. Окно было незаперто, открывалось наружу. За рамой внутри было препятствие, какая-то ткань, мешковина, набитая твердым и жестким. Эти мешки мешали пролезть в окно. Он стал их отстранять и отталкивать. Они сдвинулись, и несколько упало вовнутрь, глухо стукнуло. Осторожно, скрючившись, стараясь не задеть за невидимые гвозди, он опустил ноги вглубь, почувствовал плотную твердую опору. Гибко изгибаясь, влез, утвердился на ровном и твердом.
Он стоял у слухового окна под крышей, слыша дождь, видя в неровный, заложенный мешками проем пульсирующий проспект. Вдыхал теплый запах пыли, железа, распиленного смолистого дерева. Это дерево было у него под ногами, – свежие доски, недавно занесенные на старый душный чердак.
Глаза стали привыкать к темноте. Опора, на которую вначале натолкнулись его ноги, оказалась столом, придвинутым к слуховому окну. На столе размещались какие-то предметы. Он стал шарить, натыкаясь на эти предметы осторожными пальцами. Длинный узкий цилиндр с раструбом оказался фонарем. Он включил его. Белесый сноп света осветил железо крыши, старые балки, укутанные в асбест и ветошь трубы, свежие грубо струганные доски, уложенные на замусоренный пол, стол, на котором стоял термос, бинокль в футляре. Фонарь осветил слуховое окно, которое было заложено набитыми чем-то мешками, положенными один на другой. Некоторые из них были сдвинуты и упали, потревоженные его, Хлопьянова, движениями.
Его вдруг осенило. Место, где он стоял и где хотел оборудовать огневую ячейку, и было оборудованной огневой ячейкой, приспособленной для наблюдения, выжидания и точного снайперского выстрела, направленного вдоль проспекта.
Открытие поразило его. Мешки с землей создавали надежный бруствер. В узкую щель была видна черная река, дуга моста, уходящая вдаль перспектива. На длинном столе, придвинутом к слуховому окну, могло уместиться вытянутое тело стрелка. Термос с горячим чаем был ему подспорьем. Сектор обстрела захватывал мост, проспект, ближние подходы к мэрии и Дому Советов.
Кто-то неведомый опередил его. Угадал его мысли, соорудил для него позицию, и если пошарить во тьме, перерыть груды ветоши, то нашаришь лакированный пенал гранатомета.
Это было абсурдом. Продолжением прежнего бреда, когда его мысли, принадлежавшие только ему, потаенные, сокровенные, становились известны другим. И те, другие, умевшие читать его мысли, пользовались им, направляли его поступки, останавливали их или убыстряли.
Ему стало страшно. Кто-то был рядом. Следил за ним из темноты, присутствовал в затхлой тесноте чердака. Хлопьянов кинул фонарь на стол. Торопливо, цепляясь одеждой за гвозди, вылез из слухового окна, слыша, как свалилось и стукнуло еще несколько мешков с землей.
Дождь шелестел, рокотал. Хлопьянов старался не греметь жестяной ребристой поверхностью. Хватался за вентиляционные трубы, двигался обратно, к пожарной лестнице. И вдруг на коньке крыши, на тусклом, в отсветах небе увидел черную человеческую фигуру. Она была недвижной и плоской, как мишень в тире, с круглой головой и покатыми плечами. Хлопьянов испытал мгновенный ужас, чувство западни, неизбежной гибели. А перед этой гибелью неизбежна схватка, удары, крики, паденье на мокрое грохочущее железо, сползание к краю, туда, где внизу варится и пузырится огнями город. И в это мокрое варево, в каменное огненное месиво – лететь, хватая напоследок ветреный черный воздух.
Этот ужас и обреченность лишь на мгновение парализовали его. Он преодолел паралич, собрал всю волю в агрессивный, управляемый сгусток. Встал в боевую позу, уперев ноги, отведя назад правый локоть, стиснув пальцы, заострив ладонь для протыкающего удара. Стал медленно наступать по рокочущей железной мембране. И оттуда, где чернели контуры с круглой головой и покатыми плечами, раздался спокойный голос:
– Это я. Не волнуйся. Просто забрался по лестнице на тебя посмотреть.
Это был голос Каретного. Застучали его шаги. Каретный приблизился и встал рядом с ним, стряхивая с ладоней мокрую ржавчину, отодвинул со лба прилипшие волосы.
Они стояли на зубчатой крыше, среди вентиляционных труб и антенн. Москва туманно, огромно шевелила сгустки огня, проталкивала их сквозь свои проспекты и улицы, подобно киту, проглотившему комья светящегося планктона.
– Увидел тебя в дверной глазок, когда ты поднялся на последний этаж и отыскивал ход на чердак, – сказал Каретный. Одна половина его лица, обращенная к проспекту, ртутно светилась, а другая была покрыта черным мраком, и на этой черной половине странно мерцал одинокий выпуклый глаз. – Я знал, что ты придешь, ждал тебя.
– Почему? – спросил Хлопьянов, переступая замерзшими ногами по крыше, дребезжащей от бесчисленных капель дождя. – Почему ждал?
– Ты ходил по маршруту. Сначала по Успенскому шоссе – я видел, как ты зашел в магазинчик, купил бутылку «пепси», пил на ступеньках и следил за движением машин. Потом тебя видели в сосняках вдоль шоссе, на полянке. Ты собирал цветочки-василечки. Я узнал тебя на мониторах, которые следят за передвижением по трассе. Ты был замечен на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки и у Бородинской панорамы. Я видел твои фотографии – как ты сидишь на скамье и читаешь газету, а глаза твои смотрят поверх газеты на трассу. Ты отслеживал обстановку, ждал проезда правительственных машин.
– Но как ты нашел меня здесь?
– Для той операции, которую ты замыслил, трасса в районе Успенского шоссе, Рублевки и Кутузовского абсолютно не пригодна. Ты это скоро понял. Логика поиска должна была привести тебя к этому дому, который и прежде был тебе знаком. Я поджидал тебя несколько дней, и ты пришел.
– Ты знаешь, что я задумал? Для какой цели исследовал трассу?
– Знаю. Но поверь, сейчас это – пустое занятие. Президент вчера ушел в отпуск. Его уже нет в Москве. А когда он вернется, наступит абсолютно другое время. У тебя будут совсем другие задачи.
Они стояли близко друг к другу. Лицо Каретного на фоне стеклянно-огненной колбы мэрии казалось теперь искусственным, синтезированным из воды, железа, холодного пламени, покрыто металлической испариной. Глядя на это лицо, Хлопьянов вспомнил, как вместе они неслись в вертолете над горчично-желтым Гератом. Зеленые минареты, как стебли хвощей, качнулись в иллюминаторе, машина резко двинулась, уклоняясь от пулеметной очереди, и Каретный, потеряв равновесие, ухватился за плечо Хлопьянова. Теперь, на крыше московского дома, в черной дождливой ночи, Хлопьянов вспомнил то давнишнее горячее пожатие. Было необъяснимо и неслучайно их стояние на кровле высокого дома, среди размытых огней и туманов, – их давнее знакомство, их недавняя встреча, их будущая неразрывная судьба.