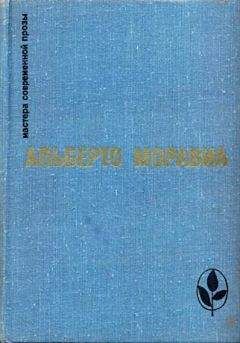Альберто Моравиа - Римлянка
— Если тебя волнует, что они записали твой разговор с Астаритой… Астарита сделает для меня все… я уверена, если я его попрошу, он уничтожит протокол допроса.
Он посмотрел на меня и спросил каким-то странным тоном:
— Почему тебе пришла в голову такая мысль?
— Ты же сам говорил об этом на днях… я посоветовала тебе забыть, а ты мне ответил, что если ты сам забудешь, то полиция все равно не забудет.
— А как ты его попросишь?
— Очень просто… позвоню ему по телефону и пойду в министерство.
Он не ответил ни да ни нет. Я продолжала настаивать:
— Ну хочешь, я его попрошу?
— Что ж, попроси.
Мы вышли из дома и направились в молочную позвонить по телефону. Я застала Астариту на месте и сказала ему, что мне необходимо с ним поговорить. Я спросила у него, могу ли я прийти к нему в министерство. А он необычно строгим для него, хотя и заикающимся, голосом ответил:
— Или у тебя дома, или нигде.
Я поняла, что он хочет получить вознаграждение за услугу, оказанную мне, и я попыталась увильнуть.
— Встретимся в кафе, — предложила я.
— Или у тебя дома, или нигде.
— Ну, ладно, — согласилась я, — приходи ко мне. И добавила, что буду ждать его сегодня же вечером. — Я знаю, чего он хочет, — сказала я Мино, когда мы возвращались домой. — Он хочет переспать со мной… но никто не может принудить к этому женщину, если она того не хочет… правда, он однажды уже прибегнул к шантажу, но тогда я была совсем неопытна, теперь это ему не удастся.
— А почему ты не хочешь спать с ним? — спросил он небрежно.
— Потому что я люблю тебя.
— Однако, — сказал он все тем же небрежным тоном, — если ты не захочешь спать с ним, он возьмет и откажется уничтожить протокол допроса… и что тогда?
— Уничтожит, не бойся.
— А если он согласится уничтожить его только при одном условии?
Мы поднимались по лестнице, я остановилась и проговорила:
— Тогда я поступлю так, как ты скажешь.
Он обнял меня за талию и медленно произнес:
— Так я скажу вот что: ты пригласишь Астариту и введешь его в свою комнату, будто собираешься с ним спать… я буду стоять за дверью и, как только он войдет, убью его выстрелом из пистолета… потом мы затолкаем его под кровать, а сами будем предаваться любви всю ночь напролет.
Глаза его блестели, впервые с них спала мутная пелена, застилавшая их все эти дни. Я испугалась потому, что предложение его внешне выглядело логичным, и еще потому, что теперь я постоянно ждала каких-то ощутимых жутких событий, и даже это преступление стало казаться мне вполне реальным.
— Пощади меня, Мино! — воскликнула я. — Не говори об этом даже в шутку.
— Не говори даже в шутку, — повторил он, — но ведь я действительно пошутил.
Я подумала, что, может быть, он и не шутит, но меня успокаивала мысль, что его пистолет разряжен, я, как уже говорила, без его ведома вынула оттуда патроны.
— Будь спокоен, — продолжала я, — Астарита сделает все, что я пожелаю… но только не говори таких вещей… мне страшно.
— Уж будто и пошутить нельзя! — легкомысленно отозвался он и вошел в квартиру.
Как только мы очутились в мастерской, им вдруг овладело какое-то волнение. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, засунув по своей привычке руки в карманы. Но движения его изменились, стали более энергичными, чем обычно, лицо выражало глубокое и ясное раздумье, а не прежнее отвращение и апатию. Он, несомненно, испытывает облегчение при мысли, что компрометирующие его документы скоро будут уничтожены, подумала я, и в моем сердце вновь родилась надежда, Я сказала:
— Вот увидишь, все уладится.
Он вздрогнул всем телом, взглянул на меня, как будто увидел впервые, а потом машинально повторил:
— Да, конечно… все уладится.
Я выпроводила из дома маму, попросив ее купить что-нибудь к ужину. Внезапно меня охватила радость. Я подумала, что все действительно уладится, быть может, все устроится даже лучше, чем я предполагаю. Астарита сделает — если уже не сделал — все, о чем я его попрошу, а Мино постепенно избавится от угрызений совести и снова почувствует интерес к жизни, опять будет с надеждой смотреть в будущее. Всем людям, когда с ними случается беда, хочется лишь одного: чтобы она поскорее прошла; и как только им почудится, что ветер переменился, они тут же начинают строить самые невероятные, самые честолюбивые планы. Два дня назад я считала, что готова отказаться от Мино, лишь бы знать, что он счастлив; но теперь, когда я надеялась вернуть ему счастье, я не только не собиралась с ним расставаться, но старалась найти способ покрепче привязать его к себе. Я понимала, что мною в данном случае руководит не расчет, а какое-то непонятное состояние души, в которой всегда теплится надежда и которая не может долго выносить беспокойства и отчаяния. Мне казалось, что при нынешнем положении вещей у нас есть только два выхода: либо мы расстанемся, либо соединим навсегда наши судьбы; и так как я не желала даже и думать о разлуке, то я судорожно искала средства поскорее осуществить свой план совместной жизни. Я не люблю лгать и считаю, что одним из немногих моих достоинств является правдивость, иной раз даже излишняя. И если в тот момент я солгала Мино, то лишь потому, что была уверена, будто я говорю правду… правду, которая правдивее самой правды, правду, которая идет из глубины души, а не от реальных фактов. Впрочем, я ни о чем и не думала, на меня как будто нашло вдохновение.
Он все еще шагал взад и вперед по комнате, а я сидела у стола. Неожиданно я сказала:
— Послушай… да остановись ты… я должна сказать тебе одну вещь.
— Что такое?
— С некоторых пор я чувствую себя неважно… на днях я пошла к врачу… я беременна…
Он остановился, посмотрел на меня и повторил:
— Беременна?
— Да… и я твердо уверена, что ребенок твой.
Мино был умен, и он тотчас же прекрасно понял, чтó побудило меня сделать это признание, хотя, конечно, не мог догадаться об обмане. Он взял стул, сел возле меня, ласково погладил по щеке и сказал:
— Полагаю, что это и есть самый главный довод, самый убедительный довод, который должен заставить меня забыть все, что произошло, и жить дальше… не так ли?
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила я, делая вид, что не понимаю его слов.
— Я превращаюсь в pater familias,[4] — продолжал он, — и то, чего я не желал делать ради твоей любви, теперь я обязан буду сделать, как обожаете говорить вы, женщины, ради этого создания.
— Поступай как знаешь, — сказала я, пожав плечами, — я сказала только потому, что это правда… вот и все.