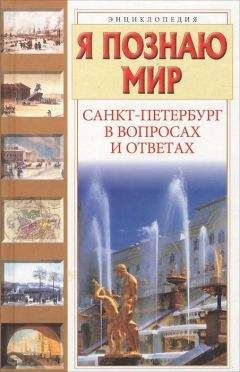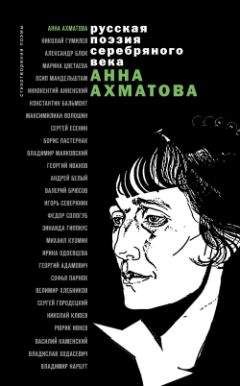Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
А потом наступит 21 ноября 1921 года. В этот день стихи Нины похвалят сначала в студии у Гумилева, а потом – у Наппельбаумов, где поэты читали стихи по кругу. Похвалит и Ходасевич, мэтр, один из ее богов. «Сегодня твой день!» – шепнет ей на ухо Ида. Они, Ходасевич и Берберова, снова увидятся здесь. Теперь она будет потрясена не только его «Балладой», которую он прочтет, но и им самим. Он умел говорить глазами, как ее отец, и был не такой, как стихотворцы из «Цеха поэтов». В них она всегда находила «несовременность, манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья, – напишет потом. – Ходасевич был другой породы…» А через несколько дней уже он подстроит встречу с ней у гостиницы «Астория», на углу Большой Морской…
Она в книге «Курсив мой» все пытается представить себя в те годы гораздо более взрослой, самостоятельной и, конечно же, уже сформировавшейся поэтессой. Извинительный грех. И не рассказывает о том, что напишет в своих воспоминаниях Николай Чуковский, тогда молодой (почти мальчик!) поэт, пишущий под выспренним псевдонимом Николай Радищев. Так вот, он утверждает, что знакомство Нины и Ходасевича – его «рук дело». Он, оказывается, был и единственным посвященным в их роман, и конфидентом ее, и даже – своеобразным «почтовым ящиком» между влюбленными.
Берберова – «рослая, сильная, здоровая девушка с громким веселым голосом», – пишет он, и с расщелинкой «по самой середке ее верхних зубов», очень ее красившей, ни с кем, оказывается, не дружила, кроме Коли. «Дружба наша заключалась… в том, что мы долгими часами то днем, то ночью гуляли вдвоем по пустынному Петрограду и вслух читали друг другу стихи. Ни малейшей романтической подкладки в наших отношениях не было. Я, в те годы весьма неравнодушный к женским чарам, чар Нины просто не замечал». Настолько, добавлю, «не замечал», что когда они забежали к ней домой, чтобы она могла переодеться, то она, заговорившись с ним, раздевалась просто при нем. Когда в комнату неожиданно вошла ее мать и, увидев Нину, стоявшую перед Колей в одном белье, крикнула: «Нина! При молодом человеке!» – она, пишет Коля, едва не отмахнулась от матери: «Какой он молодой человек? Он поэт…»
«Поэт» познакомил Нину с Ходасевичем, но как и при каких обстоятельствах – не сообщает. Просто говорит о том, что к Ходасевичу всегда ходил вместе с ней. «То, что Ходасевич влюбился в Нину, – пишет он, – мне казалось еще более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог… Она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайнем мере вдвое. Не к тем принадлежал он мужчинам, в которых влюбляются женщины…» Без невольной улыбки читать это сегодня нельзя. И Наталья Гончарова тоже была выше Пушкина. Не за это любят поэтов. Впрочем, Чуковский вообще уничижительно, почти оскорбительно отзывается о Ходасевиче еще и потому, что тот был ко времени написания мемуаров уже белым эмигрантом, открытым врагом советской власти. А Коля – единственным в семье Чуковских, кто оказался, что называется, правее «папы»…
А что же подстроенная Ходасевичем нечаянная встреча у гостиницы «Астория», решившая его судьбу? Так вот, Нина темнеющим вечером, в валенках, бежала с занятий в студии к себе домой: с Галерной – на Кирочную, и вдруг на углу услышала крик с той стороны улицы: «Осторожно. Здесь скользко». «Из метели, – вспоминала она, – появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча). “Я вас тут поджидаю, замерз, – говорит Ходасевич, – пойдемте греться. Не страшно бегать в такой темноте?”» И она, робея, пошла с ним – худым, и легким, и, несмотря на шубу, изящным. Пошла пить кофе в «низок» – так называлось кафе на Невском, напротив «Диска», Дома искусств, куда недавно еще ее водил Гумилев, ухаживавший за ней.
Так запомнила встречу Нина. Ходасевич запомнит ее иначе. Он действительно поджидал ее после лекции в институте. Но на углу улицы на его глазах она запуталась в мотке какой-то проволоки, и он со смехом стал ее распутывать. Кусок же проволоки незаметно отломал на память. Потом сделает из него памятный браслет для нее. Она потеряет его через несколько лет, купаясь на Балтике. Нечаянно. А потом, уже не нечаянно, будет трудно и долго уходить от него…
Все в их жизни решится в новогоднюю ночь 1922-го. Почти единственную ночь, когда окно Ходасевича на Невском гореть не будет. Оба они будут встречать Новый год в Доме литераторов на Бассейной (ул. Некрасова, 11). Там за их столиком окажутся Замятин, Чуковский, Слонимский, Федин и Всеволод Рождественский. И там Берберова прочтет свое стихотворение, где будут строчки: «Жизнь моя береговая, // И за то благодарю!» «Что значит… “береговая”?» – спросит Ходасевич. «Которая берегом идет, дорога береговая», – ответит она, удивляясь, что он не понимает. «Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?» – «Если хотите… Не всамделишная», – согласится она. И тут Ходасевич, выждав, когда заговорят окружающие, тихо, для нее одной, скажет: «Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всамделишным». Это шепнет ей как раз перед боем часов. Сказать ему, «что он уже всамделишный, – пишет Берберова, – я не могла. Я еще этого не чувствовала». Но после этих слов они поднялись и пошли на Невский, в Дом искусств, к нему. В час ночи по гололеду празднично, по тогдашним временам, освещенного Невского, смеясь, цепляясь друг за друга, они будут спешить к его комнате под выкрики из всех ресторанов модной тогда песенки: «Мама, мама, что мы будем делать, // Когда настанут зимни холода? // У тебя нет теплого платочка-точка, // У меня нет зимнего пальта!.»
Через семь дней она уйдет от него под утро уже не той, какой была. Напишет про ту ночь: «Мы… просидели до утра у его окна, глядя на Невский, – ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли… и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня.
Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные…»
43. РАСПЯТИЕ ПОЭТА (Адрес третий: Кирочная ул., 11)
Они расстались у окна Дома искусств на Невском, у счастливого окна Ходасевича и Берберовой. Через пять лет в Париже Нина на его карточный выигрыш купит литографию с изображением этого дома, «сумасшедшего корабля». Они повесят ее в нанятой ими квартире. А через десять лет, сварив поэту борщ на три дня, перештопав все его носки, она уйдет от него, уйдет ни к кому, оставив мебель, лампу, чайник, даже вышитого петуха на чайнике, даже эту литографию. Он, еще днем, накануне ее ухода, напугав ее словами: «Не открыть ли газик?» – заберется на подоконник парижской квартиры и будет стоять в полосатой французской пижаме у раскрытого на четвертом этаже окна (на четвертом этаже, как в Петрограде!) и смотреть на нее – уходящую любовь. Навсегда уходящую. Она, как когда-то это делала на Невском, оглянется. «Он стоял, – напишет, – держась за раму обеими руками в позе распятого. Был апрель 1932 года…»