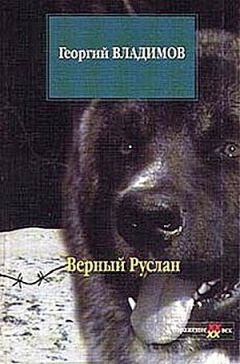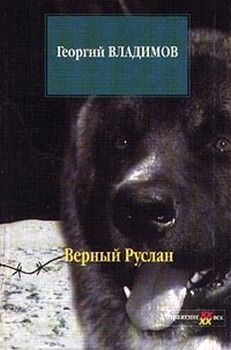Георгий Владимов - Генерал и его армия. Верный Руслан
Трезорка едва перенёс такое переживание, он пал на брюхо, закрыв глаза, и долго отдышивался, как после изнурительного бега. А Руслан с этой минуты только и пригляделся к нему, и был поражён — каких же трудов стоила Трезорке жизнь, сколько же хитрости, сноровки да и мужества она от него требовала. Трезорка жил в краю, где любовь к сущему выражается иной раз с помощью камня или палки или пинка ногою, и где он имел столько же шансов выжить не сломленным, сколько насчитывал сантиметров роста. А всё же не стал он ничтожеством, торопящимся лизнуть побившую руку, ни разу не встретил брошенный в него предмет вилянием хвоста, но с яростным лаем «прогонял» обидчика до угла, хоть и не смея приблизиться и напасть. А подумать, так по иным статьям он бы не сильно и проиграл прежним товарищам Руслана, а может статься, и превзошёл бы их.
Руслан всё реже с ними встречался, но чтобы знать — и необязательно встречаться, собачья газета пишется в воздухе, она печатается на заборах и столбиках — и сколько же заурядной чепухи, сучьих сплетен он мог из неё вычитать! Дик опять попался на воровстве, бит шкворнем от навозной тачки, ослепшая Аза уже не стыдясь побирается у булочной, Байкал недурно устроился — в гастрономе, при мясном отделе, но попробуй сунься, своего порвёт и т. д. и т. п. Поначалу их дрязги бесили Руслана, повергали в отчаяние, но потом он перестал на них и откликаться. Всё было естественно, всё по-собачьи понятно. Сколько б они ни кичились, сколько бы ни хвастались новыми хозяевами, а ведь служили-то они скверно. Не такие же они дураки, чтоб не понимать этого. Нынешние хозяева держали их за грозный вид, за металл в голосе, за кристальную ясность взгляда и готовность напасть на кого прикажут, — да только на всё-то им нужен был приказ, а хриплоголосый никудышный Трезорка сам разбирался, что к чему. Они, например, признавали одного хозяина — мужчину, чада же его и домочадцы уже не могли к ним приблизиться, Трезорка же за хозяина держал тётю Стюру, но и Потёртому был не прочь послужить, пока тот имел здесь влияние. Имевших влияние прежде, ещё до Потёртого, деликатно не замечал; лучше, чем сама тётя Стюра, различал верных её приятельниц и тайных врагинь — каждой своё полагалось приветствие или не полагалось вовсе; видел разницу между уклончивыми должниками и настырными кредиторами — первых следовало шутливо обтявкать и заманить во двор, вторым — не показываться на глаза. А ведь никто этого не объяснял Трезорке, просто он был на своём месте. Все «казённые» давили цыплят без совести, а после битья уразумели, что это грех, и уж на курятник не глядели. А Трезорка приглядывал и сам не давал цыплёнка в обиду, потому что знал: в первую голову подумают на него. Он понимал, как выгодно быть честным, но и как мало одной твоей честности, — нужно ещё исключить возможность подозрений. Он понимал, что если тебя нежданно пустили в комнаты, так же нежданно и погонят, а потому не залёживайся и не чешись при гостях, а если невтерпёж — залейся лаем и беги на двор, как будто учуял подозрительное. И не нужно делать вид, будто тебе нипочём, если щёлкают по носу, наоборот — рычи и кидайся, безобидных любят, но пуще любят их щёлкать. Трезорку учила жизнь, она его колошматила и ошпаривала, до обмороков пугала консервными банками, привязанными к хвосту, опыт был суров и порою ужасен, но зато — собственный опыт, зато Трезорка ни у кого не занимал ума, не заморочил себя наукой, которую преподают двуногие к своей только выгоде, а потому сохранил и уважение к себе, и здравый смысл, и незлобивый нрав, и неподдельное сочувствие к таким же трезоркам, полканам и кабысдохам. Сплетник он был и хвастун — каких поискать, но не допустил бы никогда — знать, что где-то можно подхарчиться, и никому о том не сообщить. А вот ведь Руслан никого, кроме Альмы, не позвал на свою охоту. Они привыкли, что еды было вдоволь, и никогда не приходилось им есть вдвоём из одной миски — это нервирует, но и приучает к солидарности.
Неисповедимы пути наших братьев, и не исключается, что, поживи здесь Руслан ещё лето, узнал бы он много такого, о чём и не подозревал в своей служебной гордыне, и, проснувшись однажды, почувствовал бы себя вполне своим — и этому двору, и посёлку, и Потёртому с тётей Стюрою. А она, продолжи свои попытки накормить его тёплым супом с костями, могла бы, наверное, добиться успеха. Не вечно же ему было выказывать своё недоверие, и мог бы он заметить, что вот ведь Трезорке её варево нисколько не повреждает.
Да неисповедимы и наши пути. Однажды те две стрекотухи, что говорили Потёртому: «Пишут вам, пишут», вдруг этого не сказали, а выбросили ему на барьер грязно-белый захватанный треугольничек. Потёртый взял его обеими руками осторожно, с опаскою, будто в нём что-то могло взорваться и хорошенько фукнуть в глаза, — о, с этими штуками Руслан имел дела на занятиях по недоверию к несъедобным предметам. На улице треугольничек развернулся в лоскут, страшного в нём не оказалось, но поражающее действие он возымел на Потёртого — тот как-то странно обмяк и опустился на крыльцо.
— Вот эт-то номер! — сказал он Руслану. И Руслан мог увидеть, что глаза ему все же слегка обожгло. — Такой, брат, номер, ты не представляешь…
Пойми-ка их, помрачённых, отчего они вдруг преображаются? Сколько на них ни ори и ни лай — ведь не расшевелятся, но, может быть, надо каждому раздать по бумажке с лилово-серыми закорючками — и они будут смеяться и всхлипывать, кусать губы и ударять себя по коленкам, а потом ощутят прилив невиданной энергии. По всем правилам — а для Руслана всё становилось правилом, что повторилось хоть дважды, — от этого крылечка полагалось бы подконвойному устремиться в буфет и там до икоты налакаться жёлтого, а он пошагал в рабочую зону, да как ещё резво! И какие там показывал чудеса сознательности — планки так и вспархивали под его руками, все перекуры — на ходу, а домой он просто скакал по шпалам с изрядной связкой на плече и пел уже что-то новенькое, бодрое, с выдохом на прыжке:
Я рубль
к рублю
в сберкассе коплю!
И мне,
и стране
доходно!
О таком подконвойном только мечтать было, с таким подконвойным — жить да радоваться! Но, к сожалению, их походам уже наступал конец. Ещё раза два они сходили и принесли немалые охапки, а потом Потёртый накрепко засел в доме и занялся там неизвестно чем, сунуться не стало возможности: такая оттуда потекла вонища — приторно-пьяная, выедающая глаза и горло. Тётя Стюра открыла настежь все окна, и вонь растеклась по двору. Трезорка чихал и плакал, убегал отдышиваться в чужие дворы, а Руслан предпочёл отнести свой пост на другую сторону улицы. Тут были, конечно, непросматриваемые зоны, и под завесою своей вони подконвойный вполне мог уйти через забор, но, к счастью, он себя непрестанно выдавал голосом. С утра, оставшись в доме один, он там блеял, кряхтел и рычал, сам себе задавал грозные вопросы: «Это кто делал? Я спрашиваю — вот это кто грунтовал? Не сознаесси, падло? Руки б тебе пообрывать!» — а то, напротив, очень довольный, пел дребезжащим, на редкость противным тенорком: «У ва-ас, поди, двуно-огая жена-а!..» Когда же возвращалась тётя Стюра — из какой-то своей рабочей зоны, — немедленно у них начинался ор:
— Сколько ты ложишь? Ты уж десятый, не то пятнадцатый слой ложишь! Кончай это дело, ну тя в болото, продыхнуть нечем!..
— Зато ты увидишь, Стюра! — кричал он торжествующе. — Ты увидишь: от нас с тобой следа не останется, сгниём вчистую, но за такую вот политурку — косточкам моим не будет стыдно!
По вечерам же у них наступала необычная тишина, они полюбили подолгу стоять на крыльце рядом, облокотясь на перила, изредка перекидываясь словами, отрывистыми и утопающими в шёпоте, точно у заговорщиков. Эти двое что-то замыслили — и Руслан терялся в догадках.
Но вот явилась возможность подступиться к ним. Великая деятельность подконвойного прошла обвалом, и сам он сидел живым обломком этого обвала — расслабленно-добрый, с бледным осунувшимся лицом, медленно разминая папироску слипающимися пальцами; в растерзанном вороте белой рубахи, заляпанной чем-то красно-коричневым, виднелись потные выпуклые ключицы. Тётя Стюра, утвердив руку на его плече, высилась над ним — величественная, но несколько грустная, с влажным таинственным блеском в глазах. На ней было нарядное голубое платье, которого Руслан ещё не видел, с короткими рукавчиками и кружевом на груди. Платье ей жало, то и дело она его оттягивала книзу и поводила плечом. От тёти Стюры терпко, убойно пахло цветами.
— Руслаша, жив ещё? — спросил Потёртый. Будто Руслан никак не должен был выжить от его едкой гадости. — Расставаться нам с тобой пора, хочешь не хочешь. На поезде завтра — ту-ту!.. А то, может, вместе? Поди-ка, на тебя и билета не спросят. А дорожка — тебе незнакомая, долгая, за трое суток насмотришься, сколько за всю жизнь не повидал. Как ты на это дело?