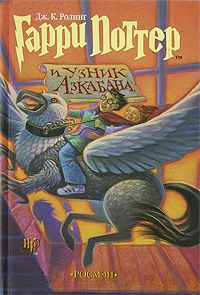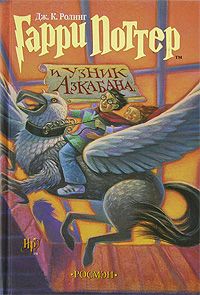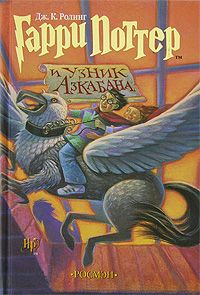Умберто Эко - Пражское кладбище
— А не противоречат ли тут идеи одна другой? С одной стороны, евреи хотят запретить роскошь и излишества, а также алкоголь, с другой — они за спорт и развлечения и спаивают рабочих…
— А евреи всегда говорят одно, делают другое, они обманщики от природы. И если вы публикуете большой документ на многих страницах, знайте, что никто его не станет читать с начала до конца. Каждый раз сообщается новая мерзость, новая перешибает старую. Никто и не вспомнит, что там он вычитал вчера. А кроме того, при внимательном чтении все логично. Пражские раввины хотят использовать роскошь, излишества и алкоголь для совращения плебеев, но когда овладеют властью — тогда они принудят плебеев жить более чем скромно.
— Ясно. Прошу извинить.
— Что вы, что вы. Просто я ведь над этими документами размышлял не один десяток лет, с самой ранней молодости, и теперь знаю все нюансы, — подытожил я с законной гордостью.
— Правда ваша. Но хотелось бы закончить каким-нибудь очень крепким выражением, из тех, которые надолго застревают в памяти, чтобы продемонстрировать еврейскую злокачественность. Например: «В наших руках неудержимое честолюбие, жгучая жадность, беспощадная месть, злобная ненависть. От нас исходит всеохватывающий террор».
— Это неплохо для приключенческого романа. Но почему же евреи, которые, как известно, не дураки, будут так говорить о самих себе?
— Я об этом бы не беспокоился, однако. Раввины ведь в своем кругу, на кладбище, непосвященные их не слышат. Стыд им отроду не присущ. Ведь надо же как-то вызвать нравственное негодование.
С Головинским было приятно работать. Он принимал или делал вид, что принимает мои документы за подлинные, но без колебаний редактировал их по своим потребностям. Правильного сотрудника нашел Рачковский.
— Думаю, — сказал Головинский, — что у меня достаточно материалов для создания того, что получит название «Протоколы собрания раввинов на пражском кладбище». Пражское кладбище уходило от меня к другому. Но бесспорно, я способствовал его триумфу. Я вздохнул с облегчением и пригласил Головинского на ужин в «Пайяр», на углу шоссе д’Антен и бульвара Итальянцев. Дорого, но отменно. Головинский уплел с восторгом и пулярдку по-эрцгерцогски и утку а-ля пресс. Но не исключено, что этот сын степей с тем же удовольствием набил бы брюхо шинкованной капустой. Я бы не разорялся, официанты не кидали бы изумленные взгляды на грубо чавкающего клиента. И все же он ел с восторгом, пил с восторгом, и, от вина ли, или от искренней увлеченности, глаза его блестели, когда он пошел выкладывать свои религиозные и политические соображения.
— Выйдет шедевр, — говорил он. — Выйдет наружу вся их глубокая ненависть, религиозная и расовая. Ненависть клокочет в каждом слове, изливается, как водопадом желчь. Многие поймут, что назрело окончательное решение.
— Я уже слышал это выражение от Осман-бея. Вы его знаете?
— Только понаслышке. Но ясно же, что эту проклятую расу надлежит вырывать с корнем любою ценой.
— Рачковский не согласен, он говорит, что евреи нужны живыми, дабы имелся пристойный враг.
— Болтовня. Пристойный враг отыщется всегда. И не надо думать, что я, если работаю на Рачковского, то и солидарен с ним во всем. Сам Рачковский учил меня не прислуживаться к вышестоящему лицу, а готовиться к приходу нового начальства. Рачковский не вечен. В Святой Руси найдутся люди побоевитее. Правительства Западной Европы робки, не смогут отважиться на окончательное решение. А Россия полнится энергией, духовидица, вынашивает мировую революцию. Оттуда и придут очищение и обновление. Не от французиков-размазней с ихними эгалитэ-фратернитэ, и не от ограниченных немцев, не имеющих нужной широты…
Со времен ночной встречи с Осман-беем я предвидел это. Получив письмо моего деда, аббат Баррюэль не дал ему ход, чтоб не доводить до массовой бойни. Однако деду-то мечталось как раз о бойне, о той, которую провозвещали и Осман-бей и Головинский. Думаю, что дедушка мне заповедал осуществление своей мечты. Господи, нет, не моими руками, по счастью, будут убивать целый народ. Но я внес свой вклад, хотя и скромный.
И прилично заработал на этом. Евреи никогда не стали бы мне платить за изничтожение христиан. Во-первых, христиан слишком много, во-вторых, если б на то пошло, они бы все проделали сами. А вот евреев, по моим подсчетам, истребить можно.
Не мне работать с этим, я вообще по возможности чураюсь физического насилия. Но мне совершенно ясно, как надо действовать. Я был ведь в Париже во времена Коммуны. Нужны обученные и подготовленные бригады. Им дать задание — любого, у кого крючковатый нос и кудреватые волосы, к стенке. Под горячую руку и нескольких христиан. Но сказал же папа рыцарям, штурмовавшим альбигойский Безье: для верности перебейте всех, Господь отберет своих.
Сами же пишут в своих «Протоколах», что цель оправдает средства.
27
Недописанный дневник
20 декабря 1898
Передал Головинскому все оставшиеся материалы. Все, что у меня было собрано для «Протоколов». Чувство пустоты. Как в молодости после защиты диплома. В голове вопрос: «Ну а теперь что?» Избавился и от раздвоения. И некому больше и нечего рассказывать. Закончен труд моей жизни. Этот труд начался, когда я листал «Бальзамо» Дюма на чердаке в Турине. Вспоминаю деда, его невидящий взор, устремленный на призрак Мордухая. Благодаря моему вымыслу Мордухаи всего мира пойдут в очистительный костер. А я? Я, объятый мерехлюндией, хоть и выполнил задачу превосходно. Печаль моя пространней и туманней, нежели та, что мучит путешественников, переплывающих на пароходах моря… Продолжаю фабриковать собственноручные завещания, продаю десяточек-другой просфор в год, но ко мне не обращается Эбютерн. Видимо, списал меня со счетов. И военные не обращаются. Там, конечно, мое имя вычеркнуто из всех перечней и из памяти всех, кто еще мог бы помнить. Ежели таковые остались… Кто? Сандер, в параличе, лежит в безвестной больнице. Эстергази развлекается игрой в баккара в каком-нибудь фасонистом борделе в Лондоне.
Не то чтобы я нуждался в деньгах. Я их достаточно скопил. Попросту скучно. Пошаливает желудок. Мне даже уже не до гастрономических услад. Варю бульоны. Стоит мне пойти в ресторан — ночь не сплю. Мучают рвоты. Мочеиспускание учащенное.
Захаживаю в «Либр Пароль», но антисемитское голошение Дрюмона меня уже не возбуждает. Над описанием пражского съезда раввинов теперь усиленно трудятся русские.
Дело Дрейфуса варится на медленном огне. Всех взбудоражило какое-то резкое выступление одного дрейфусара из католиков на страницах журнала, прежде бывшего категорически антидрейфусарским («Ля Круа»! О, прелестные времена, когда «Ля Круа» билась, чтобы поддерживать Диану! Незабываемо!). Вчера первые полосы все были заняты отчетами о бурном антисемитском митинге на пляс де ля Конкорд. Напечатана карикатура Каран д’Аша: на первой картинке многочисленная семья сидит за праздничным столом, дедушка предупреждает: «Ни слова сегодня о Дрейфусе!», а на второй картинке та же семья все-таки заговорила о Дрейфусе, все друг друга измолотили в пух и прах.