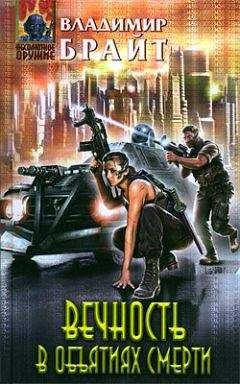Владимир Высоцкий - Черная свеча
— Благородно, — вздохнул Кламбоцкий.
Вадим обхватил ее за плечи, они вышли во двор клуба, где на куче необожженного кирпича, обхватив ручищами голову, сидел Озорник, раскачивая медленными движениями мощный торс, завывал при каждом качке:
— У-у-у!
— Больно ему, Вадик?
— Пройдет…
— Жестокий ты мальчик.
Она погладила его по щеке. Он поймал ладонь и, прислонив к губам, спросил, глядя поверх кончиков розовых пальцев, не потерявших цвет в серых сумерках летней северной ночи:
— Не сон ли это?
— Я назову нашего первенца твоим именем. Он будет, как ты.
— И его посадят в тюрьму.
— Типун тебе на язык! К тому времени тюрем не будет.
— Россия без тюрем?! Россия — тюрьма, из которой мы не убежим.
— Ты что-то задумал? — спросила с тревогой. — Посмотри мне в глаза.
— Собираюсь это делать всю оставшуюся жизнь.
— Начались перемены, Вадим. На последнем пленуме партии…
— Не говори глупости! Когда они начнут проводить свои сходки на безымянных кладбищах, где покоятся миллионы жертв, тогда, может быть, я и поверю в раскаяние партийных палачей. Но это — фантастика, бред нормального человека. Покаяния не будет, ибо оно отберет у них власть…
— Ты выпил лишнего.
Двери клуба распахнулись бесшумно, слегка хмельные голоса зашуршали в светлой ночи. Он несколько раз прикоснулся губами к ее глазам.
— До свидания, любимая!
— Я буду о тебе думать и любить свои мысли, как тебя. До свидания, мальчики!
— До свидания! Проститься пошли?
— Глохни, козел! Лучше Убей-Папу поищи.
— Я положил его возле ящиков. Эй, Зяма, где культработник?
— А вот они похрапывают! Бездельники! Вставай и тащи культуру в массы.
— Как вы смеете?! Я поставлю вопрос!
— Не бузи. Репетицию проспал. Сунь в рот два пальца. Да не мои!
— Борман, запевайте! — потребовал Калаянов, сам подхватил режущим фальцетом:
Гражданин начальник, я ваш рот имел,
Вы меня не кормите -
Я очень похудел!
Упоров повернул голову… Рядом, прижав к груди подаренную ему рясу и Евангелие, шел отец Кирилл.
Голова Монаха стояла как-то неестественно прямо, будто ее несли отдельно на пике сильные руки палача. Казалось, вот-вот опадут щеки, профиль потеряет чеканную четкость, а из твердого рта вывалится мокрой тряпкой язык.
Вадим затаил дыхание. Но губы разжались для того, чтобы было произнесено:
— У вас такой светлый день. Сохраните тот свет, пожалуйста, в потемках будущей жизни.
Низкие звуки опустились на дно слуха, жили там некоторое время, совсем его не беспокоя. Он нес их, как нес бы упавшую на плечо снежинку, не ощущая потребности откликнуться. В такие минуты думалось о другом…
«…Возвращаемся за решетку к принудительному труду. Не бежим. Должно быть, человек потому и не любит волка: волк неприручаем… Он живет сей минутой, он — укор человеку. Человек думает о будущем и постоянно теряет настоящее. Все думает и думает. С тем проходит жизнь…»
Взгляд его остановился на скорчившемся у знакомой лужи человеке, которого заботливо обхлопал Барончик.
— Пустой лебедок? — хохотнул Зяма.
— Что твоя голова!
— Чо ж ты его мацаешь, раз такой умный?! Он же на сто рядов проверенный, как полномочный посол в Америке.
— Лепень надо бы сдернуть, — предложил Вазелин.
— Хоронить в чем будут? Сытый на «пляже» не валяется. Это голь беспартийная. В чем есть, в том и понесут…
Когда со стороны зоны протрещала автоматная очередь, они уже протрезвели, пошли молча, толкая перед собой молочный туман надвигающегося утра. Скоро по этой дороге с такими же опухшими от ночных попоек лицами отправятся на службы офицеры, держа под руку злых жен с припудренными синяками. У рыгаловки мучительной дрожью ожидания затрясется рабочий люд Страны Советов, пылая ненавистью к огромному амбарному замку, охраняющему их законное стремление загасить огонь желания и отметить, как вечный праздник, наступающий трудовой день. Она придет, откроет замок, разбудит надежду на светлое будущее. С ней сейчас спит тот бездомный «лебедь» у лужи. Он еще не знает — карманы его пусты, иначе бы умер заранее, не дожидаясь будущего…
Зэки прекратили шепотки, бугор посмотрел на них с интересом: в чем дело? Дела не было. Люди устали Пропала охота общаться, каждый уже был сам по себе, но еще не волк…
— Стой! Кто идет?!
— Бригада Упорова — с репетиции.
— Дежурный — на выход! А ну, строиться! Страх потеряли, рогометы!
Загремели цепями две проспавшие службу овчарки. Одна сипло гавкнула, будя в себе злость, но, так и не поймав настроение, пометалась с угрожающим рыком да и успокоилась.
— Любимов с вами? — спросил заспанный дежурный, переминаясь с ноги на ногу, как застоявшийся конь. — Любимов не нужен!
Убей-Папу оттолкнул поддерживающих его под руки зэков, гордо ответил, снова по-змеиному мягко изогнув тонкую шею:
— Ваш покорный слуга здесь, Петр Николаевич!
Дежурный нашел его глазами, прищурился, словно пытался вспомнить стоящего перед ним человека, а вспомнив, сказал:
— С тобой все ясно, Любимов. В БУР его, старшина!
Убей-Папу рассерженно поправил яркий галстук на голой шее, слов для оправдания не нашел и, понуря голову, пошел за старшиной, буркнув через плечо:
— До свидания, товарищи!
— Не унывай, лепило! Подогрев отправим!
Капитан прошелся вдоль каждой пятерки, терпеливо и спокойно заглядывая в их слегка осунувшиеся лица. Сказал старшине:
— Шмона не будет. Первая пятерка, шаг вперед!
Уже в жилзоне Упоров подошел к нему, чтобы попросить за Сережу Любимова. Дежурный скинул шинель на отполированную солдатскими задницами скамью, вяло махнул ладонью, предлагая зэку замолчать. Жест был оскорбительно небрежен, и Упоров постарался о нем сразу забыть.
— Просить будете у баб на свободе, — он зябко поежился, снова накинул шинель. — Здесь извольте выполнять распоряжения! Идите!
Заключенный оторвал тяжелый взгляд от верхней пуговицы кителя, заставил себя улыбнуться обидчику и сказать:
— Я женат, гражданин начальник. Меня другие женщины не интересуют. Спокойной ночи.
Растерявшийся от неожиданного ответа дежурный тоже улыбнулся, и это была улыбка хорошего мужика. Он помахал зэку рукой, запросто, точно тот уходил из гостей:
— Отдыхай, Вадим. Спокойной ночи!
Кисло и остро запахло лагерной помойкой, по которой ползал кто-то едва различимый в сгустившихся перед рассветом сумерках, подсвечивая себя спичками.
Когда спичка гасла, раздавалось жадное чавканье или писк лишившихся своей законной пайки лагерных крыс…