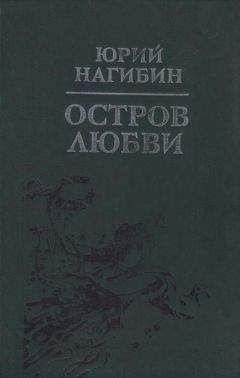Юрий Нагибин - Любовь вождей
— Мы влипли, — сказал я шоферу. — Кого-то встречают. Похоже — Брежнева.
Я вылез из машины. Волнение содрогнуло нарядную толпу. От нее отделились три рослых человека в темных вечерних костюмах при галстуках и двинулись к нашей машине. Семенящей походкой их обогнали пейзанки, одна несла на деревянном блюде каравай домашнего хлеба и солонку, другая на подносе — золотой столбик коньяка и чарки. На локте у нее висело полотенце с петухами. Тяжело из глубины чрева вздохнул геликон, и оркестр заиграл: «Славься!»
Дорогие мои соотечественники, братья и сестры, это встречали меня!..
Хлеб-соль оказались передо мной одновременно с высоким представительным человеком, источавшим какой-то сухой жар. Засмугленный солнцем лоб, серые, затененные ресницами, словно прячущиеся, глаза, странно горькая складка прекрасно очерченного рта. Тайное страдание искажало черты красивого, победительной стати мужчины. Оно искупало обидную для окружающих щедрость природы, излившей на него все свои дары, быть может, то боль мира пронизывала его душу, он был в ответе за всех малых и сирых нашей земли.
— Здравствуйте, дорогой человек, — сказал он, заключив мою руку в две теплые сухие ладони. — Я ваш подопечный.
— Второй! — произнес, подходя, его правый спутник.
— Третий! — доложил спутник слева.
Я думал, что они рассчитываются, как в строю, нет, просто то были второй и третий секретари райкома. Прежде чем я это сообразил, мне в нос шибануло плотным запахом свежевыпеченного хлеба. Я взял густо посоленный кусок, в другой руке оказалась чарка с коньяком. Я хватил ее, содрогнулся всем своим похмельным существом и вслед за тем почувствовал, как собирается нацельно мой размытый вчерашним шампанским состав. Громкое «ура» сотрясло хилый среднерусский воздух. Кто-то утер мне рот полотенцем. Я стал жевать вкусный теплый хлеб, свободной рукой приветствуя ликующую толпу.
Следующую чарку мы выпили «со свиданьицем», и тут вчерашнее шампанское пришло во взаимодействие с сегодняшним коньяком, и во мне проснулся Хлестаков. Бессмертный Иван Александрович дремлет почти в каждом русском человеке, это фигура куда более национальная, чем купцы Островского, толстовский Платон Каратаев, мужики и разночинцы Тургенева, Обломов Гончарова, не говоря уже о вовсе придуманных праведниках Лескова. Это все типы, обобщения, а Хлестаков живая и весьма существенная частица каждого из нас. Я почувствовал легкость мыслей необыкновенную, и пискнувший в душе птенец смущенной совести сдох. Спокойным ухом ловил я замирающие раскаты хора и духовых, спокойным взором принимал кривые улыбки поселян, похоже, не знавших, кого они так тепло встречают (представляю, что бы творилось, если б они знали!), спокойным шагом направился в сторону расписной потемкинской деревни.
Надо сказать, что всего неделю назад я наблюдал точно такие же двусмысленные коттеджи под Дмитровой — целый еще не заселенный поселок. То было шоу, организованное для писателей тогдашним подмосковным боссом Конотопом. За этим причудливым строительством угадывалось какое-то верховное сумасшествие. Надо думать, Брежнев с подачи своих сельских консультантов (Суслов не лез в деревенскую безнадегу) решил, что единственный способ удержать доярок в колхозе — это создать им выдающиеся жилищные условия. Это заблуждение: в текучем колхозном населении лишь доярки ни при каких обстоятельствах не бегут с тонущего корабля. Очевидно, привязанность к скотине делает русскую женщину вечной пленницей гиблого места. Но царское слово упало с уст, и все как оглашенные принялись строить дома для тружениц молочных ферм по типовому проекту, сочетавшему изящную неброскость избушки бабы-яги с ярмарочным балаганом. При каждой избушке предусмотрен гараж, предполагалось, что у всех доярок есть машины. Но как-то не подумали, что у доярки может быть своя корова, свинья, пара овец, на худой конец птица, — ни хлева, ни сарая при доме не имелось. И когда я спросил об этом Конотопа, он ответил с раздражением, но умно: «У вас, видать, ветерок в голове. И Москва не в один день строилась». Тут меня подозвал Борис Можаев:
— Глядите, в этих домиках нельзя жить.
И показал на щели, рассекавшие строение сверху донизу по всему составу. В каждую щель свободно входила ладонь. Не надо норд-оста, сирокко и афганца, чтобы сделать нарядные избушки непригодными для жилья, достаточно, нашей обычной русской метелицы.
— Стало быть, — мудро добавил Можаев, — никто и не рассчитывал, что тут будут жить.
Узбекский синдром. Хлопковые эшелоны Рашидова в нечерноземном исполнении. И сейчас, войдя в терем, я стал уверенно всовывать ладонь в щели, ничуть не уступавшие своим подмосковным сестрам. Пока я предавался этим полезным упражнениям, сопровождающие меня лица деликатно отвернулись.
Главный писатель спросил, действительно ли мне так понравились очерки секретаря райкома — при нем. Я пробормотал что-то смутно утвердительное.
— И это можно печатать? — допытывался он.
— Если журнал хочет, почему бы не напечатать? — ответил я, цепляясь за остатки чувства собственного достоинства.
Самое странное, что секретарь стоял тут же рядом, и страдальческое выражение на его красивом лице могло поспорить с ужасной гримасой Марсия, с которого Аполлон живьем сдирает кожу в наказание, что тот вздумал состязаться с ним в игре на свирели и проиграл. Почему мы разговаривали через переводчика, я и сейчас не пойму. Видимо, причиной тому крайняя скромность и деликатность молодого автора, который даже спросить о своем труде не решился. Мне же это непрямое общение позволяло облекать свои ответы в уклончивую форму, как бы не беря на себя полной ответственности за происходящее. Я был наивен и глуп, да разве мне было тягаться с представителями власти? Представляю их презрение к этому жалкому барахтанью, ведь они твердо знали, что будет так, как им нужно.
И вдруг я увидел, что вокруг все опустело: исчезли второй и третий секретари, скрылись прелестные пейзанки с хлебом-солью, рассеялась толпа, и оркестр унес свою сияющую гулкую медь. То, что от меня требовалось, было сказано, и — кончен бал, погасли свечи. Хорошо, что оборвалось на полуслове это бредовое чествование, хватит хлестаковщины, пора вернуться к себе настоящему и грустному.
Опять же через Главного писателя я услышал, что секретарь идет проводить митинг и вручать дояркам условные ключи от их будущих жилищ. «Почему „условные“?» — поинтересовался я в своей обычной манере лезть куда не надо. «Дома еще не достроены, замки не врезаны, какие же могут быть ключи? — прозвучал вразумительный ответ. — Это, так сказать, ключи в моральном смысле».
Мною же распорядились так: меня отвозят в сиреневый заповедник, куда позже подскочит мой протеже, мы посидим на травке, перекусим и плеснем на сердце.
И опять обрывком старой мелодии поманило в милое невозвратное прошлое, где тоже была трава и «утоли моя печали»…
Когда кончится дурман политических страстей и вновь запоют птицы, вернутся краски в мир, зазвучит Шопен и нежное, доверчивое девичье лицо выплывет из мглы, кишащей размалеванными масками интердевочек и живых манекенов, я напишу о сиреневом заповеднике.
Это было и осталось самым чистым и благоуханным впечатлением моей жизни. Полтора часа среди белых, фиолетовых, голубо-лиловых и жемчужно-голубых кистей. Венгерская, персидская, махровая сирени источали материально плотный аромат. Воздух порой становился спертым, а я все не мог надышаться. Я будто плавал в сиреневом море. Мои спутники, поняв, что мне хочется остаться одному, потерялись в сиреневых аллеях. Это было почти безнравственно, такое погружение в субстанцию аромата, оставляющее за бортом весь остальной мир с его печалями, вытесняющее Бога из души. Я все сильнее чувствовал греховность своего наслаждения и почти обрадовался, когда из кустов вдруг высунулся кудрявым фавном Главный писатель.
— Вас ждут, — сказал он вкрадчивым сиреневым голосом.
Мы выходили из заповедника, теряя все истончающийся дурманный аромат, а навстречу нам поплыл совсем иной — грубый, плотский, но по-своему тоже привлекательный запах, будящий древнюю память о насыщении у костра.
Впереди открылась березовая роща; созревшее дневное солнце разбросало палевые пятна по белым стволам, а в кронах зажгло ослепительные дневные звезды. По грозно-изумрудной траве пробегали вороненые отблески. Слева протянулись тяжи голубого дыма, они быстро расплывались, заполняя рощу сухим туманом. Внезапно этот среднерусский пейзаж мощно дохнул восточным рестораном.
Мы сделали еще несколько шагов и увидели: на опушке на огромном вертеле вращалась над костром освежеванная баранья туша, а вокруг набитые раскаленными углями мангалы отдавали свой жар нанизанному на шампуры мясу вперемежку с помидорами и головками лука. Смуглые усатые восточные люди в белых колпаках и передниках колдовали над жарящимися шашлыками, опахивая их веерами.