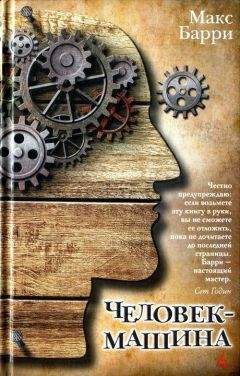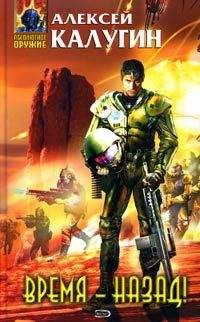Патрик Уайт - Древо человеческое
Старой женщине хотелось бы полюбоваться малиновым светом, который шашечками падал из витража с изображением Христа на пыль, покрывавшую пол, но не терял своего цвета. Малиновые отсветы, как драгоценности, блестели в ее глазах, когда она слушала мужской голос литургии и слегка кивала головой, что вошло у нее в привычку. Она хотела бы уйти в религию целиком и жить возвышенной жизнью. Но муж никогда ей этого не позволит. Что такое для Стэна бог? – думала она, сидя с ним плечо к плечу, – я не знаю бога, Стэн мне не даст познать его. Легче было считать, что виновата не она, а другие, и она почти убедила себя, что так оно и есть. Теперь она что-то бормотала и ворчала себе под нос, не слушая священных слов. Это он сделал меня такой, подумала она с облегчением; сознание своей заурядности было удобным, как мягкая подушка. Она стала думать о пудинге, который собиралась сделать в первый раз, – с маринованной айвой и поджаристой корочкой из почечного жира.
А Стэн Паркер все утро, с тех пор как сел в машину, совсем не думал о жене. Когда он стоял в церкви, голова его была пуста, без единой мысли – признак упадка веры или полной самоотрешенности. Я не могу молиться, сообразил он и больше не пытался, зная, что это бесполезно. Так он и стоял или машинально опускался на колени – пленник своей реберной клетки.
Священник принялся вталкивать веру в души своих прихожан. Если б понадобилось, он ее вбил бы в них молотком. «Внемлите словам утешения», – смиренно возглашал он, хотя его молодой голос все равно звучал вызывающе. «Внемлите словам святого Павла… Внемлите словам святого Иоанна… Если согрешил человек…»
Ах, если б это была правда, подумала Тельма Форсдайк. Нет, я не богохульствую, но я не могу поверить, что это правда. Ей стало зябко в меховой шубке. Здесь сквозило, потому что кто-то не закрыл дверь, и она, единственная из всех, обязательно простудится. Дрожа, она старалась поверить, что это не имеет значения. Поверить. Какое желанное слово. Нет, она вовсе не неверующая, но только у вдохновения есть разные высоты. Она поглядела вокруг, пытаясь по лицам молящихся угадать, кого из них спасет слепая вера – эту старуху, у которой вырезали опухоль, или человека с редкими, будто приклеенными прядями волос, хорошо изучившего гимнастику богослужения, да еще несколько уродливых людей, которых поднял с постели внезапный порыв, или какая-то пружина, что ли, – должно быть, нужно иметь особый заведенный механизм для набожности, чтобы взвиться в небо.
Но я же верю, я верю, верю, взмолилась Тельма Форсдайк.
А служитель бога, взяв кончиками пальцев хлеб и пригубив вино, что-то бормоча при этом, тоже всеми силами старался придать хлебу и вину высший смысл. Но возвысить их было трудно. Его несчастные челюсти должны были жевать, и к десне прилип кусочек хлеба.
Люди вставали с мест и опускались на колени у решетки, получая причастие. Сзади их фигуры были страшноваты. Подметки, обращенные к церкви, как бы приносили двойное покаяние.
Вот сейчас будет самое неприятное, подумала Тельма, я боюсь.
Оставив на скамье дорогой платочек, который она скатала в мягкий шарик, влажный и пахнущий духами, она тоже встала, как бы заботясь о родителях, которых она на время обратила в инвалидов.
Они подошли к решетке. Они стали на колени. У кого-то затрещали суставы.
Ждать было невыносимо. Люди, которые в своем кругу считались пожилыми, уже перешагнули старость и приближались к могиле. На лицах-масках уж не отражались ни радость, ни страдания. Они тревожно ждали причастия, но были уже безгрешны. Другие были голодны, в животе у них урчало, и не только нынче утром, а всю жизнь, и, когда подошла их очередь, они съедали хлеб украдкой, с жадностью, а потом слизывали несуществующие крошки с ладоней, на которых умещалась вся их жизнь. От этого кое-кто поеживался. От дерзости их ладоней.
Молодой священник, несмотря на тяжесть башмаков, старавшихся приковать его к коврику, поднялся наконец на возвышение. Но в борьбе с башмаками он как-то вытянулся. Он словно бы стал выше ростом, хотя передвигался тяжело.
Когда он проходил вдоль ряда причастников, малиновый свет из чуждого всему житейскому витража омывал его мраморное одеяние. В голове, высившейся над паствой, еще гудело от собственного зычного голоса, но служба все же близилась к завершению. Суть квадратных кусочков хлеба подтверждалась их сущностью.
Прихожане постепенно насыщались пищей духовной. Одни испытывали блаженное чувство освобождения от всех грехов. Другие погрязли в них навеки, разве что им дали возможность лучше осознать свои грехи.
Чтобы заслужить прощение, нужно быть очень простым и очень добрым, как мои родители, думала Тельма Форсдайк, она получила и проглотила причастие, почти не шевельнувшись, и те, кто на нее смотрел, подумали, что она и не причащалась. Тельма, разумеется, уже научилась быть скромной во всех случаях жизни. Но мой отец и моя мать, думала она. Они стояли на коленях рядом с нею, и их присутствие успокаивало ее больше, чем причастие. Вся их жизнь в этом утреннем свете казалась такой прозрачной и прекрасной. Тельма Форсдайк, стоя на коленях, молила о былой своей чистоте – единственном, что может искупить грех. Но чистоту ей не вернуть, как и не вернуть тело прежней Телли Паркер, и значит, она останется грешницей.
Тут она собралась было вытереть уголок рта платочком, но усомнилась, будет ли это прилично, да к тому же платочек остался на скамье, и тогда Тельма закашлялась. Кашель был хриплый. Должно быть, начинался приступ.
Стэн Паркер, в эту минуту преисполненный той чистотой, которой так хотела его дочь, взял хлеб и съел. У него застыли руки. Он стал бы молиться, если б знал как. Но у него пересохло горло. Он чувствовал себя не хуже, чем обычно, но только внутри все высохло.
«Зачем я пришел сюда… господи?» – спросил он.
Последнее слово вкралось в мысли случайно, оно не было для него привычным, хотя и не давало забыть о себе. Он знал его. Стэн закрыл глаза, то ли чтоб спрятать пустоту, то ли защищаясь от какого-то слишком яркого света. Веки не спасали его ни от того, ни от другого. Он стоял на коленях и выглядел совсем беззащитным.
Свет сиял на пыльном ковре с вытертым узором. Усталость была почти блаженной. Цветы были так тесно, так туго втиснуты в вазы, что, если б не какой-то закон природы, они бы вдребезги разнесли эти вазы при всей своей неподвижности.
Священник подносил чашу всем по очереди, и слова его падали, как капли драгоценной крови. Причастников отделяли от него только его широкие запястья. Чаша и слова милосердно воспарили в воздухе, и у тех, кто, немножко стыдясь за себя, был особенно усерден, вино горячо забулькало в глотке.
Эми Паркер, для которой настала минута отпущения, взяла чашу и, держа ее довольно высоко, наклонила ее только чуть-чуть, чтобы почувствовать на губах крохотную капельку, она не смела выпить больше, но все равно эта капелька проникла в горло и мгновенно отравила кровь ядом давних воспоминаний. Вот так же королева поднесла ко рту другую чашу, деревянную, судя по стуку о пол, и тут же упала. Королеву отравили, а ведь в ней тоже на какое-то время проснулась совесть. Вино подействовало на Эми. Я ненавидела, подумала старая женщина. Люблю я или ненавижу? Все путалось у нее в голове, под парадной велюровой шляпой. Все из-за вина. Это Стэн, опять подумала она, не то с любовью, не то с ненавистью, ох, взгляни на меня, Стэн, но, конечно, он сейчас не может. И тут она вдруг твердо поняла, что все останется между ней и богом, и, вернее всего, ей так никогда и не удастся заглянуть в душу своего мужа, которую он с какой-то целью держит наглухо закрытой.
Но священник отобрал чашу у старой женщины, которая почему-то вцепилась в нее пальцами.
Если б я выронила чашу, как отравленная королева, – содрогнувшись, подумала Эми Паркер, – она бы загремела здесь, как гром.
Рубиновое вино растекалось внутри и звенело, и это было невыносимо.
Но священник, словно и не видя ее, взял чашу и передал ее выпрямившемуся Стэну.
Приняв ее, старик нерешительно глотнул, вытянув губы и выпятив подбородок, по которому когда-то текла блевотина, она будто и сейчас подступила к горлу, и желчь смешивалась во рту с горячим вином. И все-таки он проглотил. Теперь оставалось только надеяться на бога.
Но было так покойно стоять на коленях, на коврике, опираясь руками о лакированную решетку, потрескавшуюся во время жары. Как это хорошо – покой, думал он, но только ничто не обещало, что этот покой продлится, и старик смиренно и с благодарностью принимал дарованные ему минуты.
Чего же он и еще несколько человек ждали после того, как священник повернулся к ним спиной, после того, как все кончилось? Муха, ползавшая по перилам, перебралась на руку старика, а он ее даже не заметил. Глядя в одну точку, он ждал и жадно прислушивался. Неужели, думал он, мне не будет подан какой-то знак? И от этой мысли он улыбнулся светлой улыбкой. Или оттого, что в утреннем холоде по его телу стало разливаться тепло, либо та доброта к своим собратьям, что у иных стариков появляется под конец жизни.