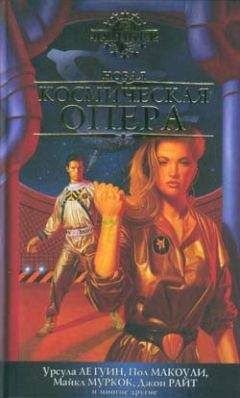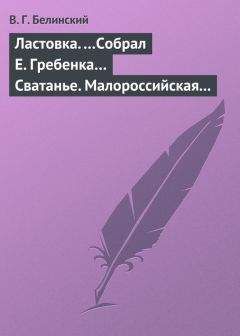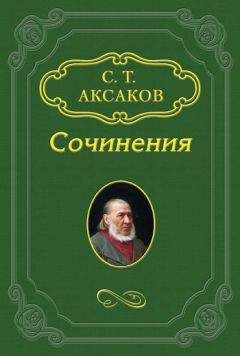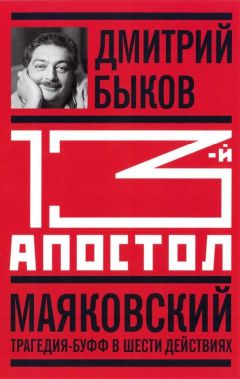Дмитрий Быков - Орфография
— Живет моряк с дочкой, — продолжал Грэм. — Он списался на берег, но делать береговую работу не умеет, как птица не умеет ходить. Город сплошь состоит из ужасных, приплюснутых жизнью особей…
— Да что вы нашли-то? — спросил наконец Ять. — Тут можно, все свои.
— Как — что? — не понял Грэм. — Это и нашел! Но послушайте сюжет: это будет феерия!
— Грэм… — Ять сардонически улыбнулся, поняв, что есть в городе люди, понимающие в жизни еще меньше, чем он. — Вы знаете, что в Гурзуфе переворот?
— Знаю, конечно, татар погнали. И что?
— Татар погнали вчера, — еще ехиднее улыбнулся Ять. — А переворот случился сегодня. И я сильно подозреваю, что он последний.
— Кто теперь? — по-прежнему радостно спросил Грэм. — Рыбацкое временное правительство?
— Если бы. Теперь диктатура. Сторож из соседнего имения.
— Садовник, — мрачно поправил Зуев.
— Так прогнать его к чертовой матери, и дело с концом, — беспечно рассмеялся Грэм. — Татары — это я еще понимаю: татар много, и у них есть опыт ига. Но садовник…
— У садовника гораздо больший опыт ига, — передразнил его Ять. — У Зуева отбирают дом, нам с Татьяной предписано покинуть город, а в участке сидит певец Маринелли, которого хотят кастрировать.
— Ловко, — уже серьезнее заметил Грэм, взглянув на стенные часы. — И это все к трем часам дня? Ловко.
— Это не все. Он ввел новую орфографию, построенную на фонетическом принципе. Пишите, как слышится, но не так, как слышится вам, а как ему. Ему все слышится с кавказским акцентом: тарэлька, но — сол. Понимаете? Русский язык облагорожен клекотом горного орла.
— Его еще не растерзали? — деловито спросил Грэм.
— Напротив. Он пользуется в городе полной поддержкой. Наконец-то порядок и все прочее. Кроме того, за него все босяки и дуканщик.
— Так я пойду ему уши оторву, — беззаботно предложил Грэм. — Или, если хотите, вместе.
— Будет вам! — не выдержал Зуев. — Разве об этом сейчас надо думать, Господи! Надо понять, как организовать оборону…
— Тут мы, видите ли, решили не отдавать дом, — пояснил Ять. — Они завтра придут выселять Зуева и вселять дуканщика, а мы не пустим. Может, постреляем, может, восстание подымем… Короче, есть план забаррикадироваться. Айда с нами?
— Что ж, — сказал Грэм. — Побывать в осаде — я всегда с удовольствием. Я как раз хотел писать об осаде, но не давалась развязка. Есть повести, которые без пули не окончишь.
Словно в подтверждение его слов, послышались одиночные выстрелы, щелкавшие в горах и отдававшиеся многократным эхом.
— Атакуют, — с досадой прошептал Грэм. — А мы не готовы… ничего не сделали, черт!
— Почему ж они с той стороны заходят? — не поверил Ять. — Нет, это не садовник…
И впрямь, это был не садовник. В Гурзуф входил сводный анархо-черножупанный отряд под командованием эсера Свинецкого. Во главе его, рядом со Свинецким, разбойно высвистывала дикий степной мотив видная балаклавская анархистка Татьяна Ястребова по кличке Птича. Вслед за нею поспешали три ее телохранителя — бывший поручик Опалинский, беглый монах Жигунов и толстый матрос Сидоренко, лихо горланивший на мотив «Яблочка»:
— Эх, Родина,
Да ты уродина!
Вам уродина,
А нам смородина!
Барич пришел в маске лешего, Пемза оделся звездочетом (халат, колпак), даже бледный секретарь нацепил смешные заячьи уши, выклеенные из цветной бумаги. Аламида был в черной хламиде неизвестного происхождения, придававшей ему чрезвычайно торжественный вид. Да и случай был подходящий — последнее заседание «Всеобщей культуры», просуществовавшей ровным счетом две с половиной недели.
Удивительно, как они за эти шестнадцать дней притерлись друг к другу — тридцать человек, сплоченные полной изоляцией от прочего мира. А возможно, ничто так не сплачивает, как обреченность, — все с самого начала понимали, что делают мертвое дело. В «Культуре» были не одни елагинцы, но и добрый десяток приблудных персонажей, осколков бурной и тоже обреченной питерской литературной жизни тринадцатого года. Не было задачи более абсурдной, чем приобщение эстетов к народному просвещению, — но самая ее абсурдность и заведомая неосуществимость задачи были как-то сродни болезненному эстетизму Грабского, Працкевича, Тулина, Савина и оформителя предполагавшейся серии художника Хорошевского, прелестного, легкого человека, все делавшего шутя, щеголя, который и работает легко, щегольски, и так же голодает, и так же когда-нибудь умрет. Казарин им любовался.
За две недели они успели создать целую культуру «Культуры» — Корнейчук завел альбом, куда во время заседаний по очереди писали всякую чушь, приходящую в голову; Грабский сочинил драму в стихах «Противоестественный отбор» — о спорах при составлении проспектов; Барич испек цикл пародий — на Хламиду, Корнейчука, Казарина; все были узнаваемы, над каждой смеялись. Восемь заседаний (Корнейчук сетовал, отчего их не сделали ежедневными) сдружили всех — и не зря сказал Хламида в прощальной речи, что для одного этого уже стоило затевать революцию, прости Господи. Хламида полагал, что узнал о разгоне первым: ему протелефонил Чарнолуский и, пресекая расспросы, сообщил, что сделать ничего нельзя. «Им не нужно быть вместе. Кому-то наверху кажется, что это контрреволюция. Они стерпят инакомыслие, но заговора не стерпят», — сказал он, не дав возразить. Поразмыслив, Хламида признал соображение здравым.
— А издательство? — на всякий случай спросил он.
— Не знаю, — честно ответил Чарнолуский. — Вероятно, книги для чтения победившего класса будет теперь отбирать сам победивший класс.
— Но он понятия не имеет, из чего выбирать!
— Тем лучше для него. А впрочем, я не сказал последнего «нет». Может быть, потом, со временем… или их привлекут к составлению новой орфографии — нельзя же вечно без правил? Но сейчас несвоевременно, объясните им, как сможете…
Хламида не мог; и, придя на Елагин, был рад обнаружить, что во дворце все уже знают.
Итак, Хламида был в хламиде, Барич — в маске, Казарин — в банте, Корнейчук — с носом («Я всегда с носом», — шутил он) и даже Працкевич — в уродливой черной полумаске, очевидно, выкроенной из старого сюртука (ничего не умел делать руками). Этот Працкевич вообще был явный безумец — только в десятые годы такой безумец мог считаться поэтом, — но в стихах его на двадцать мусорных строчек попадалась одна алмазная; бывали и чистые восьмистрочные шедевры, пронизанные тоской такого невыносимого одиночества, что Казарин не смел смеяться над ним; говорят, такая тоска бывает перед припадком — сердечным или эпилептическим, а Працкевич жил от припадка до припадка.