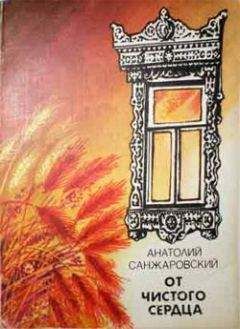Филип Рот - Американская пастораль
Ему было непонятно, почему этот спор продолжался годами, но так или иначе вопрос о религиозных корнях блондинки Шейлы Зальцман составлял неотъемлемую часть жизни родителей. Для Доун, долгие годы старавшейся проявлять терпимость к его далеким от идеала родителям, как и он старался проявлять терпимость к ее далекой от идеала матери, это было самым необъяснимым из их странных пунктиков — и тем к тому же, что приводил ее в ярость (прежде всего, потому, что Доун понимала: в глазах ее подрастающей дочери Шейла обладала чем-то, чего не было у нее, Доун, и в результате Мерри доверяла своему врачу так, как уже не доверяла матери). «Что? Разве ты единственный еврей-блондин на свете?» — спрашивала у него Доун. «Все это никак не связано с ее внешностью, — объяснял Швед, — это связано с Мерри». — «Как связано с Мерри, еврейка она или нет?» — «Не знаю. Шейла была ее психотерапевтом. Они боготворят ее за все, что она сделала для Мерри». — «Но все-таки, скажем прямо, она не была ее матерью, а?» — «Они прекрасно это понимают, — спокойно отвечал Швед, — но ее профессионализм воспринимается ими как что-то вроде волшебства».
Именно так воспринимал его и он; причем не столько в тот период, когда Шейла была врачом Мерри, — тогда он разве что отмечал неожиданную сексапильность ее строгой сдержанности, — сколько после исчезновения Мерри и погружения жены во мрак горя.
Жестоко сброшенный со своей обжитой высотки, он ощутил жажду, источник которой был где-то в самой глубине его существа, жажду бездонную, толкнувшую его к решению, такому для него чуждому, что ему было даже не осознать всей невероятности происходящего. В спокойной вдумчивой женщине, которая научила Мерри естественнее воспринимать самое себя, выучила ее преодолевать речевую фобию и справляться с захлестывающими друг друга фразами, но при этом усилила ее детское чувство неподконтрольности, он почувствовал ту, которую хочет влить в свою жизнь. Мужчина, почти двадцать лет сохранявший верность жене, принял решение влюбиться безрассудно и коленопреклоненно. Прошло три месяца, прежде чем он осознал, что это ничего не решает, осознал, потому что Шейла объяснила ему это. Он получил не романтическую, а склонную к откровенности возлюбленную. Она спокойно объяснила ему, чем было на самом деле его безмерное обожание, рассказала, что с ней он был самим собой не больше, чем Доун, лежащая в психиатрической клинике, была настоящей Доун, рассказала, что им сейчас просто движет стремление к разрушению. Но он был в том состоянии, что еще продолжал предлагать ей бежать вместе в Понсе, где она выучит испанский и станет университетской преподавательницей по технике речевой терапии, а он превратит фабрику в Понсе в центр управления всем своим бизнесом, и жить они смогут на хорошо оборудованной гасиенде в горах, среди пальм, высоко над Карибским морем…
Но вот о Мерри в своем доме — о Мерри, прятавшейся у нее после взрыва, — она умолчала. Рассказала ему обо всем, кроме этого. Откровенность иссякла в той точке, где ей следовало бы начаться.
Неужели и у других мозг работает так ненадежно? Или один только он не в состоянии разглядеть помыслы и поступки окружающих? Неужели все совершают промашки так же, как он, по сто раз на дню то понимают, то нет, действуют то умно, то достаточно умно, то так же глупо, как и сосед, то глупее, чем самый последний кретин на свете? Урод ли он, исковерканный глупостью, простак сын простака отца, или вся жизнь сплошной обман и все, кроме него, в нем участвуют?
Прежде он мог бы описать ей это чувство неадекватности, мог обсуждать его с Шейлой, говорить о своих сомнениях, беспокойстве — ее спокойный взгляд на вещи позволял открыться этой женщине-волшебнице, подарившей Мерри гигантские возможности, которые та отбросила, не использовав, внедрившей в нее, по словам самой Мерри, «удивительное чувство легкости», позволившее наполовину избавиться от фрустрации, вызванной заиканием, все понимающей женщине, чья профессия — предоставить страдальцам еще один шанс, возлюбленной, которая разбиралась во всем, в том числе в том, как укрыть у себя убийцу.
Мерри была в доме Шейлы, а та ничего ему не сказала.
Все доверие между ними, все счастье, которое он когда-либо знал, вообще все, включая убийство Фреда Конлона, — все было чистой случайностью.
Мерри была в ее доме, а она ничего не сказала.
И сейчас тоже молчит. Горячность, которую проявляли все остальные, казалась ей, судя по-докторски внимательному взгляду, своего рода патологией. Действительно, зачем все говорят всё это? Сама она не сказала за вечер ни слова: ни о Линде Лавлейс, ни о Ричарде Никсоне, или X. Р. Халдмане, или Джоне Эрлихмане; ее преимущество перед другими было в том, что ее голова не забита тем, чем забиты другие головы. Ее манеру прятаться в себе Швед в свое время воспринимал как признак чувства собственного превосходства. Теперь он думал иначе. Ледышка, сволочь. Но почему??? «Ты разрешаешь своим близким полностью моделировать твою жизнь. Ничто так не поглощает тебя, как чужие потребности», — сказала она однажды. «По-моему, эта характеристика больше подходит Шейле Зальцман», — ответил он и, как всегда, ошибся.
Он считал ее мудрой, а она была просто холодной.
В нем клокотало бешеное недоверие ко всем. Уничтожение каких-то опор, последних опор, создало ощущение, что в течение этого дня он из пятилетнего мальчика превратился в столетнего старика. Как было бы хорошо, подумал он, как помогло бы ему сейчас, если бы там, на лугу, поодаль от обеденного стола, паслось стадо Доун и в нем, защищая его, — мощный бык Граф. Если бы Доун была по-прежнему хозяйкой Графа, если бы Граф… Пахнуло неземным покоем, и только тут он сообразил, в чем дело. Если бы Граф по-прежнему мелькал там, в темноте, среди коров, то здесь, среди гостей, мелькала бы в своей пестрой пижамке Мерри и, прислонившись к спинке его стула, шептала ему прямо в ухо: «Миссис Оркатт все время пьет виски. Миссис Уманофф пахнет потом. Доктор Зальцман лысый». Шаловливая и абсолютно безобидная наблюдательность, тогда — никак не нарушающая порядок, детская, не выходящая за рамки приличия.
— Папа, еще бифштекса? — услышал он вдруг свой голос, явно окрашенный безнадежным усилием хорошего сына, пытающегося если не успокоить погруженного в свои мысли отца, то хотя бы смягчить его печаль по поводу недостатков нееврейской части рода человеческого.
— Да, я возьму еще бифштекса, и вот для кого — для этой молодой леди.
Подцепив кусок мяса с блюда, которое поднесла к нему одна из прислуживающих за столом девушек, он аккуратно опустил его на тарелку Джесси; видно было, что он собирается полностью взять ее под опеку.