Меир Шалев - Фонтанелла
— Аня, когда мы с тобой ляжем, ты и я? — и, только когда она ответила, понял, к своему ужасу и стыду, что произнес это не про себя, а вслух.
— Еще немного, — сказала она, ее рот в углублении моей шеи.
— Еще немного сегодня или еще немного когда-нибудь?
— Еще немного когда-нибудь.
Ее бормотание дышит мне в шею, ее слова еще длятся, но уже растворяются до невнятности, и вот уже ее «к» почти сходят на нет, и «ш» уже шелестят еле слышно, а «м» и «н» сливаются в сомкнутом поцелуе, и каждая буква замирает и исчезает по-своему.
Не знаю, как обстоит дело на море и в воздухе, в этих пространствах беспрепятственных путей, но на суше есть два способа двигаться к цели, не отклоняясь с пути. Тот, которому учил меня отец: вдоль одной прямой, в конце которой один объект, и весь ты — прицел и мушка, глаз и твоя цель; и мой — способ точки, несущейся в широком просторе, на больших расстояниях, чуя стороны света, линии высоты, ширины и длины и выпуклый изгиб земли. Таким я вижу сейчас мотоцикл Габриэля — пожирает крохотный кусочек мира, а вокруг простираются океаны, эпохи, истории и материки, и так я чувствовал тогда ее руку, когда она брила мне голову в подарок к моей бар-мицве. Я помню: несколько коротких и выпуклых проходов стригущей машинки от лба к затылку, обрезки состриженных волос падают на пол. Вот сачок для бабочек, подаренный Рахелью, брошенный на красный бетонный пол, вот простыня, в которой Аня стригла Элиезера, большая дыра посредине, вот моя голова, торчащая из нее, и одна линия, как стрела, проходит от центра земного шара ко мне, пронизывает мою фонтанеллу и взмывает к зениту.
Моя щупающая рука ощущает только короткую и колючую щетину. Аня окунула руки в миску с теплой водой, уверенно и осторожно потерла и смочила мою стриженую голову, потом взбила мыльную пену для бритья и, когда моя голова покрылась пышной белой короной, сказала:
— Не двигайся. И не думай, что ты двигаешься, это еще опасней.
Как большая оса, вилась она вокруг меня, ее бедра совсем рядом, под горящими анемонами, на уровне моего носа и глаз, а бритва приветствует мою голову, и поглаживает ее, и шепчет, и взлетает, восходит на лбу и заходит на затылке, поднимается на одном виске и опускается на другом, кружит вокруг, как топографическая линия высоты, обходящая округлый холм, и ее шелест то удаляется, то приближается, и каждый раз, подходя к моей фонтанелле, осторожно огибает ее — чуть восточнее, чуть севернее, чуть западнее, чуть южнее. Я впился пальцами в свое тело, страшась, что моя голова вдруг упадет от слабости — упадет и ее отрежут, — но вдруг сильный удар руки и громкий оклик:
— Не засыпай мне тут! Ты свалишь нас обоих! Что с тобой?!
Я встряхиваюсь. Отбрасываю забрало шлема. Ледяная буря хлещет мне в лицо.
— Все в порядке, — кричу я, — не беспокойся.
Передо мной возникает круглое зеркало.
— Посмотри, Фонтанелла, перед тем, как я сбрею и это тоже.
Бритая голова, и под ней — новое лицо, а в середине бритого черепа, на самой верхушке, — маленькая щетинистая клумба, как тот кружок травы возле шибера, который плуги оставляют на поле.
— Ты такой бледный, — сказала она. — Хочешь — упади в обморок, а потом мы продолжим…
Говорить я не мог, но мой палец изобразил движение бритвы на макушке. Не потом. Сейчас продолжим. Даже во время моей армейской службы, подарившей мне несколько бесспорно страшных минут, у меня не было такой страшной минуты, как эта. Бритва шла по пленке, прикрывающей устье моего колодца, погружалась в бороздку между костями, точно тот складной нож, который Жених изобрел для моего отца, — нож, который открывался одной рукой, когда он хотел разрезать персик по его бороздке. И пока я представляю себе всё это, я еще успеваю удивиться: каким образом мозг может увидеть, как его разрезают, в то время, когда его разрезают?
— Остановись! — кричу я Габриэлю, колотя кулаками по его спине.
— Нет!
— Остановись, я должен постоять несколько секунд.
— Я не остановлюсь! — Он только чуть замедляет, потому что ветер выхватывает слова. — И я не поверну назад. Доедем, а там ты решишь.
— Ну, вот, Фонтанелла, — сказала Аня. — Вот я тебя и побрила, как обещала. — И снова поднесла мне зеркало.
Первый раз в жизни я видел глазами то, что до этого чувствовал только внутри себя: ее пульсацию. Кожа на ней чуть приподымалась и снова опадала, как перистый покров над бьющимся сердцем птицы, только много-много медленней, и Аня, такая близкая — ее теплый живот почти касается моего лица, — лизнула свой палец и обвела ее круглыми влажными движениями, как Элиезер обводил пальцами край пустого коньячного стакана. Обводил и объяснял мне, как возникает звук зуммера, и как он достигает уха, и что с ним делает мозг, и как все это связано с пониманием.
Я хотел подняться, но ее вторая рука вдруг напряглась и прижала меня к себе, щекой к груди. И еще раньше, чем я понял, что должно произойти, ее руки уже охватили мое тело и стали опускать — то ли поддерживая, то ли заставляя, — пока я не лег на пол.
Сильная тонкая дрожь взобралась по моим позвонкам снизу до затылка, а оттуда поднялась к обнаженной вершине черепа. Дрожь и гул. Время сжимается в точку и растягивается вдаль. Ее тело стоит перед моими глазами — в эту минуту и потом, молодое и старое, со мной и без меня, в этом доме и в чужом городе, который уже тогда начал обретать во мне свою будущую форму, и свои камни, и дома, и стены, и я почти теряю сознание в тех безднах, что раскрываются между видением и предвидением.
Аня лежала, прижавшись ко мне, вороненый хохолок ее венерина холмика ощетинился и встал дыбом, и вдруг я почувствовал, что ее рука прокладывает себе дорогу между нашими прижатыми друг к другу животами. Я испугался. Я думал, она схватит меня, и уже ощутил свою диафрагму и мышцы живота — первая растворялась, вторые напряглись, и, несмотря на желание, я смутился, но ее рука пошла дальше, и вдруг комнату наполнил странный аромат, как иногда бывает весной, когда последний дождь ударяет по теплым листьям майорана и микромерии.
Будь благословенно обоняние, запоминающее лучше, чем все другие чувства. Будь проклят язык, не снабдивший запах необходимыми ему прилагательными. В полях других чувств есть синий, и размытый, и вкусный, и соленый, и высокий, и низкий, и шершавый. Но у запахов, как у болей, нет названий и имен. У них обоих — только заимствованные слова, и оба они вынуждены запоминать и сравнивать: себя — с предыдущими болями и запахами или с древними словами, таинственное звучание которых наполняет меня обманчивым ощущением точности. Я извлекаю из памяти мирру и нард, нахоат и лот, а главное, ахалот{64}, и чувствую, что все они явились в мир, чтобы предсказать мне Аню. И поскольку в отсутствие имени может оказаться полезным даже определение из словаря, скажу лишь, что ахалот — это душистое растение из Библии, а метафорически — это аромат, исходящий от чресел молодой женщины, с растрепанными волосами и высокого роста, в то время, как юноша, которого она спасла от смерти и которому только что побрила голову, лежит близко-близко к ней, и она касается себя, а потом его, чтобы помазать его, как царя или пророка. Есть ли в мире другой такой язык, в котором все это означается одним и тем же словом? Если есть — то мой это язык. Если есть в мире народ, который говорит на нем, — то мой это народ, его бог — бог мне, его страна — моя страна. Но на языке моего народа есть слова только для памяти, и для безумия, и для глупости, а на языке моей матери — только названия «ядов» да расцветок всех видов смерти.
Рука Ани вернулась из бездны, и ее запах — предположительный запах расплавленного золота и знакомого аромата цветущего ракитника и жженого шалфея. Ее пальцы прошлись по моему лицу, скользнули по лбу, округлились над оголенной фонтанеллой, обходя ее вокруг, как будто очерчивая букет васильков или царскую корону, сошлись над ней и освятили ее тоже. Я помню: мое лицо перед ее лицом и моя грудь перед ее грудью, ноги согнуты против зеркала ее ног, живот прижат к отражению ее живота. Ее рука снова вернулась к чреслам, набрала полную ладонь, снова поднялась и помазала мне глаза и лоб, спустилась и помазала мне губы, и поцелуй ангела поднялся к моему носу. Мои ресницы склеились. Ноздри раздулись. Лоб растворился. Каждый вдох заполнял пустоты в моем теле. Молод и стар я был в эту минуту, знал, какое действие она свершает, но не знал его смысла.
— Сейчас ты мой, Фонтанелла. Куда мы ни пойдем, я или ты, ты всегда будешь мой.
И снова погладила меня, мою щеку и мой нос, мои раскрытые губы, и мой облизывающий язык, и мои склеенные ресницы. Ее голова наклонилась ко мне, колос ее шеи склонен, змея ползет по пшеничному полю.
Обгоняем мчащуюся машину, в ней — один из тех новых молодых водителей, которых так ненавидит Жених, — маленькая-крашеная-колючая головка, маленькие торчащие уши. Он пытается поравняться с нами, но на горном повороте тонет в зеркале заднего обзора. Габриэль наклоняет мотоцикл направо и налево, и я — то ли сам по себе, то ли брошенный силой поворота — наклоняюсь вместе с ним. Холодный воздух ущелья, последний каменный мост, вот кладбище на въезде — Иерусалим, как же иначе! — с надписями «На-Нах-Нахам-Нахман»[123] на стенах, вот дома и балконы, заклеенные лозунгами на любой вкус — «а вдруг придет кто-нибудь, кто любит компот».
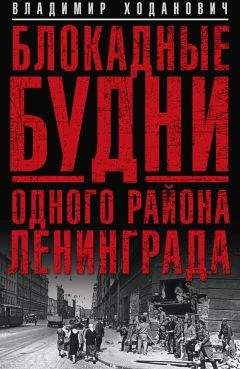

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
