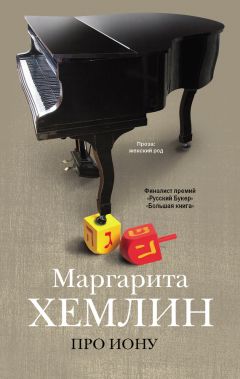Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
Однако в волшебном магазинчике нет некоторых товаров, которые, по справедливому мнению поставщиков, произрастают тут же, под носом, а именно на хуторских огородах. (Исключение, сделанное для проезжих, составляют упомянутые картошка, капуста – а также огурцы и помидоры.) Овощи и зелень, которых нет в магазине, действительно растут под носом, но являются незыблемой собственностью отдельно взятых аграриев, которые не хотят продавать их мне, жалкому отпрыску беспорточных легионеров. К этим чудесам флоры относятся репчатый лук, лук-порей, чеснок, морковь, петрушка, укроп, редис, – не говоря уж о ягодах... Но если без последних прожить кое-как можно (в конце концов Тийна продает яблоки), то без лука-чеснока – того и гляди, цингу огребешь посреди бескрайнего изобилия... Да я-то уж продержусь в этой блокаде, а ребенок?
Впрочем, прорыв авитаминозной блокады осуществляется регулярно раз в неделю. Точка прорыва – крошечная почта, которая находится примерно в двух километрах от дома Калью – полчаса ходу – под пригорок, потом лесом, потом полями, потом снова лесом.
На почте царствует Пирет Мюлла, тоже вдова, как и Тийна Труумаа. Мужья обеих (что мне ведомо, разумеется, из тех же эпистол Э. Л.) были рыбаками, и оба, независимо друг от друга, утонули. Дети этих женщин живут уже в Таллинне. Кстати сказать, этими двумя вдовами, помимо семьи Калью (обитатели двух летних коттеджей не в счет), население хутора К. исчерпывается.
Пирет, в силу своей работы, почти такая же космополитка, как Тийна. Космополитизм Пирет заключаются в том, что она не брезгует отвечать на мое «тэрэ». И даже иногда спрашивает по-русски: «Ну какк? назатт, в Ленинкратт, уже хотитте?» На что я честно отвечаю: нет.
Мой ответ всякий раз ввергает ее в глубокое раздумье. Некоторое время мы, стоя по разные стороны барьера, молча слушаем, как возятся за порогом куры. Пирет делает вид, что записывает какие-то цифры. Ей нужно время, чтобы переварить продемонстрированную мной позицию. Наконец я нетерпеливо оглядываюсь: там же, возле открытой двери стоит коляска с моим сыном. Пирет понимает мой знак – и достает из шкафа посылочку. Обратным адресом на ней стоят координаты моего питерского жилья.
...И вот я, катя перед собой коляску, уже иду назад – лесом, потом полями... В посылке, отправленной мне матерью, как всегда – я это знаю – аккуратно сложены: репчатый лук, чеснок, морковь; там еще есть обернутая газетами стеклянная баночка, в которую плотно набиты: мелко нарезанные петрушка, укроп, сельдерей... Вес посылки такой, как всегда: около двух килограммов.
Мы с сыном движемся через поля, исходящие сказочными урожаями зелени и овощей. Только небо и воздух принадлежат здесь ему и мне на том же бесспорном основании, что и любому живому – кузнечику, муравью, птице. Кроме них в этом крае мы ни на что не имеем права. Чужие, мы бредем посреди чужих урожаев.
По жесткому закону симметрии, схожая ситуация, лет через двадцать, повторилась. Только ландшафт, в который я попала, был не пейзанский, идиллический – а урбанистический, совсем не сентиментальный, хотя, принимая во внимание размеры, словно бы кукольный. Витрины, где роскошь света была перемешана с роскошью свежих тропических фруктов, лучших сортов бельгийского шоколада, драгоценных вин, янтарного сыра, французских шелков, золотых запахов изысканной парфюмерии – не имели ко мне никакого отношения. Мне негде было ночевать. У меня не было еды. И люди, которые, как и витрины, тоже не имели ко мне никакого отношения, – люди, с которыми меня сталкивала жизнь и которых врожденный инстинкт надежно защищал от чужого несчастья, говорили мне – по-русски, по-английски, по-нидерландски: ты сошла с ума! в твоей стране тебя ценят! а тут ты никто! А я, в стотысячный раз, на всех доступных мне языках, повторяла: для меня важнее всего – чтобы устроена была жизнь вокруг. Устроена справедливо. А свою частную жизнь я уж как-нибудь да устрою.
Однако для устройства частной жизни в чужих условиях – да еще жизни одинокой, без поддержки – требуется немалое время. На хуторе К. в моем распоряжении было только лето. Будь таких лет несколько, кто знает... Но мне подарено было, повторяю, лишь одно лето. Каждый день, когда сын спал, я штудировала русско-эстонский словарь... А чего я хотела, положа руку на сердце?
Я хотела, чтобы со мной здоровались. Выражаясь точнее, чтобы хотя бы отвечали на мое приветствие. Но на мое приветствие, как и раньше, не отвечали. Младшие Калью – когда я им протягивала гостинцы – по-прежнему угрюмо, мгновенно и молча выхватывали их из моих рук – при том с неизменным паническим страхом в глазах – больше, разумеется, перед родительской расправой, чем перед моей чужеродностью... Одним из многочисленных подтверждений тому – хотя какие уж там «подтверждения»! – была например, возведенная в ритуал акция посильного мщения: мой висящий возле веранды рукомойник, куда я, обычно ночью, заблаговременно наливала воды, – они, чуть ли не у меня на глазах, с регулярностью благочестивой молитвы, каждое утро переворачивали. Дерзко, безо всякого страха. Юные герои партизанской войны...
И такое положение вещей мне не казалось из ряда вон выходящим. К этому времени во мне уже прочно (вернее, навечно) укрепилась привычка к изгойству. Я еврейка, а это значит, что в стране моего рождения, еще до того, как я появилась на свет, мне назначена была роль «не такой», «чужой», «виноватой», немилой (это единственное определение без кавычек). На хуторе я, собственно говоря, продолжала пребывать в привычном статусе. При разнице причин, приведших меня к «назначению» на эту роль, – сама роль осталась прежней.
Помню момент, когда я была даже рада своей чужеродности. Я помню его особенно хорошо потому, что с него, как с некой точки во времени, хуторские события начинают мелькать с другой быстротой. Контролю эта скорость не поддается. Гайка срывается с резьбы, подламывается опорно-несущее устройство, и вся конструкция с грохотом обрушивается. (Несмотря на то, что в этом обвале, особенно при замедленной съемке, можно заметить и словно бы отдельные торможения.)
Э. Л. написала письмо Андерсу Калью – где просила его разрешить мне собирать в саду опавшие ягоды. Разумеется, за плату. В смысле: я должна была платить Андерсу за каждый стакан купленных (собранных) в саду ягод. Будучи подкаблучником, Андерс, со страху, иногда совершал совсем нелепые поступки. Вместо того, чтобы сказать об этом письме жене (которая, разумеется, пресекла бы такое дело в зародыше), он сказал – мне, что собирать ягоды разрешает, а жене не сказал ничего (видимо, понадеявшись на эстонский «авось» – думаю, такая штука существует даже у вполне рациональных этносов). Ни сном ни духом не ведая, что Ванда не введена в курс дела, я, одним совсем не прекрасным днем, начала подбирать злополучные ягоды чуть ли не у нее перед носом.