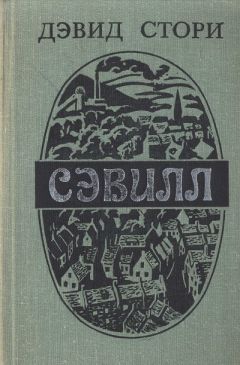Дэвид Стори - Сэвилл
Она бросила уткам последнюю горсть крошек.
— Ты говоришь так, словно это преступление, — сказал он.
— Не знаю, — сказала она. — Возможно, это действительно преступление.
— А мне кажется, такого рода мироощущение не редкость, — сказал он. — Ты и сама им грешишь, — добавил он, — разве нет?
— Сомневаюсь, — сказала она. — Видишь ли, дорогу для меня проложили другие, а ты должен был пробиваться сам. — Секунду спустя, поглядев на него, она добавила: — Теми способами, какие были в твоем распоряжении.
Позади них, заложив руки в карманы, шел какой-то мужчина — когда они остановились покормить уток, он тоже остановился, разглядывая птиц, улыбаясь Элизабет и кивая головой.
Теперь, когда они пошли дальше, он снова пошел за ними.
В ее глазах опять появилось насмешливое, чуть нарочитое выражение. Опираясь на его руку, она внимательно на него поглядывала.
— В конечном счете любое достижение индивида идет на пользу всем, — сказал он.
— Да? — Она продолжала улыбаться. — Это похоже на кредо, сформулированное постфактум.
— Нет, — сказал он и мотнул головой. — Я бы так объяснил почти все, если не все, что произошло.
— С тобой? — спросила она.
— Да, — сказал он. — Или с любым, кто на меня похож.
Некоторое время они молча поднимались по узкой дорожке, которая вела на вершину холма.
Мужчина, который шел за ними, свернул на нижнюю тропу.
— В сущности, ты никуда не относишься, — сказала она. — Ты не настоящий учитель. Ты, в сущности, ничто. Ты не принадлежишь ни к какому классу, так как живешь среди членов одного класса, реагируешь на жизнь как представитель другого и не чувствуешь симпатии ни к одному.
— Тебе неприятно, что я тебя настолько моложе? — спросил он резко, убежденный, что именно это лежит в основе ее рассуждений.
— Не знаю, — сказала она. — Я ничего подобного не ожидала.
— От кого не ожидала?
— От себя. Я настолько тебя старше, что гожусь, то есть почти гожусь, тебе в матери.
— Да, — сказал он. — Пожалуй.
Они продолжали подниматься по склону. Внизу, в долине, блеснула излучина озаренной вечерним светом реки.
— Я рада, что ты уходишь из школы, — сказала она, когда они добрались до вершины.
— Почему?
— По-моему, так для тебя лучше.
Некоторое время спустя она добавила:
— Филип с тобой говорил? То есть в эти дни?
— Один раз, — сказал он.
Кэллоу действительно как-то вечером после конца уроков подошел к нему, словно прежде Стивенс, и сказал вымученно дружеским тоном:
— Из-за меня ради бога не уходите.
— Дело не в том, — сказал он. — Меня уволили.
— Кто? — спросил Кэллоу недоверчиво.
— Коркоран.
— Он? Неужели? — сказал Кэллоу так, словно заподозрил, что директор наделен проницательностью, в которой он прежде ему отказывал. Впервые он прямо выдал, насколько неприятны ему были отношения Колина с Элизабет.
— Спросите у него, — сказал Колин.
— Но почему?
— За музыку.
— За музыку?
— И за стихи. Он считает, что все это напрасный перевод времени.
— Ну, его взгляды я знаю, но их еще мало, чтобы вас уволить, — сказал Кэллоу.
— Зато моих вполне достаточно, — сказал он.
— Вы что, собрались в большевики? — сказал Кэллоу, успокаиваясь, едва выяснилось, что Колин получил по заслугам.
Элизабет засмеялась. Ее манерность всегда становилась особенно заметной, когда они гуляли. Манерность и некоторая чопорность — глядя на них издали, наблюдая непринужденность их общения, посторонний человек мог счесть их супружеской парой. Один раз в магазине его приняли за ее сына. «А вашему сыну нравится?» — спросила продавщица, которая показывала ей платье, и Элизабет засмеялась, но поглядела на него с некоторой тревогой. Хотя она никогда не отвечала на его вопросы о ее возрасте, он догадывался, что ей не меньше тридцати пяти.
— Я иногда вижусь с Филом, — сказала она.
— А как понимать это «иногда»? — сказал он.
— Всякий раз, когда он мне звонит. — Она поглядела на него.
— И часто это бывает?
— Всякий раз, когда у него появляется настроение. — Она добавила: — К тебе он относится так же, как к моему мужу.
Некоторое время она молчала и почти перестала опираться на его руку. Дорожка вилась среди деревьев, заслонивших вид на долину.
— Ты рассердился?
— Нет, — сказал он.
— Просто мне порой бывает страшно, — сказала она.
— Чего?
— Не знаю, — сказала она и покачала головой.
Мужчина, который пошел низом, появился теперь на дорожке впереди, где она выводила на широкую лужайку. Внизу лежала долина. Река, поворачивавшая здесь от парка, вероятно, выглядела точно так же из окон разрушенного дома позади них.
— То, что ты теперь называешь средневековым мироощущением, прежде ты называла отчуждением, — сказал он.
— Не я, а Филип.
— Это практически одно и то же, — сказал он.
— А как бы он определил это? — спросила она. — Связь с замужней женщиной?
— Наверно, назвал бы симптоматичным явлением.
Мужчина тоже остановился и начал смотреть на долину.
— В отличие от связи с женщиной соответствующего возраста.
— А что такое соответствующий возраст? — спросил он.
— Более близкий к твоему, — сказала она.
— Но ведь ты же не настолько стара, Лиз? — сказал он.
— Нет. Пожалуй, нет, — сказала она, но не сразу, точно он ее испугал.
Они начали спускаться в сторону города — он вставал перед ними на гребне своего холма.
— Мы гуляем или идем куда-нибудь? — спросил он.
— Ну, — сказала она, — пойдем в кино.
Позднее она проводила его до автобуса.
После войны на пустыре за центральной площадью построили автобусную станцию. Они стояли под бетонным навесом, где гулял ветер. Ее автобус отходил от соседней остановки.
— Я начинаю подыскивать квартиру, — сказала она. — Ты не хотел бы принять в этом участие?
— Каким образом?
— Помочь мне выбрать.
— Пожалуй, не стоит.
В этот поздний час на автобусной остановке почти никого не было. Время от времени подъезжал или отъезжал совсем пустой автобус. Под двумя-тремя навесами жались крохотные очереди.
— Мне кажется, тебе не следует на меня полагаться, — сказал он.
— Да, не стоит, — сказала она, а когда подъехал его автобус и из дверей начали выходить пассажиры, добавила: — Я поговорю с Дереком. Он не имеет ни малейшего права обращаться к тебе.
— Что ты ему скажешь?
— Чтобы он не вмешивался не в свое дело.
— Мне это, в общем-то, все равно, — сказал он. Она прижималась головой к его плечу, и прежде, чем войти в пустой автобус, он нагнулся и поцеловал ее.
Мистер Риген умер. Как-то под вечер он упал без сознания у себя в огороде. Последнее время его прогулки ограничивались двором позади дома и узкой полоской огорода, упиравшейся в пустырь. Каждый день в хорошую погоду соседи видели, как он бредет по заросшей дорожке к забору и смотрит на детей, бегающих по пустырю. В этот день отец, который после чая стоял в дверях кухни, вдруг крикнул:
— Брайен упал! — И побежал через двор.
Они с мистером Шоу внесли его в дом.
Больше он во дворе не появлялся и через два дня умер.
— Редкий был человек, — сказал отец. — С качествами, какие тут мало у кого есть, — добавил он. — И с сыном такая трагедия.
Майкл теперь прятался от людей. Если он и появлялся на улице, то лишь по вечерам — шел один в кино или шагал до станции и обратно, словно куда-то уезжал и откуда-то возвращался.
— Он хотел сделать из Майкла настоящего бойца. Чтобы взял мир за глотку.
— Нельзя заставить человека стать таким, каким он не родился, — сказала мать.
— По-твоему, я этого не знаю! Уж кому это знать, как не мне, — сказал отец.
На похоронах он шел за гробом рядом с миссис Риген — у нее не было родственников. Он вернулся красный от выпитого и сказал:
— Нет, он все-таки не совсем бесхребетный. Знаете, что он учудил в «Розе и короне»? Влез на стол и давай играть на скрипке.
— Да кто он? — спросила мать.
— Майкл.
А несколько дней спустя в заднюю дверь постучала миссис Риген и, когда Колин открыл, протянула ему пакетик, туго завязанный бечевкой.
— Мистер Риген хотел, чтобы это было у вас, Колин, — сказала она.
— Я очень тронут, — сказал он.
— Он всегда выделял вас, — сказала она почти торжественно. Ее узкое лицо покраснело, темные, близко посаженные глаза смотрели на него, сойдясь к самой переносице. — «Единственный самородок во всей этой трухе», — добавила она, и в ее голосе появилось что-то от интонации мистера Ригена.
Он смотрел, как она, сгорбившись, идет к своему крыльцу странной семенящей походкой.