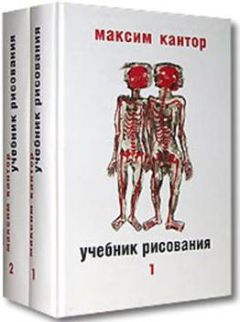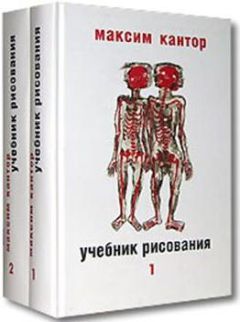М.К.Кантор - Учебник рисования, том. 1
К вышеперечисленному набору противоречий прибавлялись и так называемая, бархатная революция в Праге (явление мирное и симпатичное); и революция в Анголе (событие кровавое и безрадостное); и революция в Чили (к коей неизвестно как относиться); и череда революций в Испании (тут вообще черт ногу сломит: кто, собственно, у них революционер, а кто - контрреволюционер); и революция в Индии (это-то что такое?); и волнения в Третьем мире, которые именовались то мятежами, то путчами, то революциями, то восстаниями. А тут еще добавили «революцию роз» в Грузии и «оранжевую революцию» на Украине, про которые чего только не говорят: кто считает, что они сотворены для освобождения населения, а кто - что сделаны они по заказу финансистов Запада. Вполне возможно, что верны оба предположения, но совместимо ли одно с другим? И смотрел народ на упитанного лидера украинской революции, на грузинского президента с пухлыми щеками и сочными губами - так непохожего на революционера. И что думать про них - не знал народ: вроде бы ворюги, а вдруг - правды ищут? Хорошо бы сказать с полной ответственностью: вот это явление - революция, а остальное - так, ерунда, резня на бытовой почве.
Ох, непросто согласовывалось одно с другим. Обществу тем не менее надо было продолжать начатое. Банки должны были открываться в девять утра, чтобы грабить население и дальше; художники должны были продавать произведения искусства, которые никому не были нужны; дети - ходить в школу и учиться наживать богатство за счет других людей; ученые - сочинять теоретические книги, оправдывая воровство общим благом. И делалось это само собой, силою вещей, а уж понимание происходящего как-то должно было поспеть за событиями, придать явлениям форму.
V
Людям свойственно придавать форму явлению, когда самого явления уже и в помине нет. История экономики это правило постоянно подтверждает, обесценивая то, что давно не имеет цены. Другой пример - искусство, оно возникло от желания удержать память. Холсты Павла тех лет - это бесконечные портреты отца, образ отца он видел перед собой постоянно, призрак отца являлся ему. Отец был более реален, чем любая реальность, как же случилось, что его нет, а реальность осталась. Каждый раз, рисуя его лицо, Павел будто опровергал смерть - и портретов становилось все больше. Был ли его отец буквально похож на портреты, Павел не понимал: он рисовал с уверенностью, что воспроизводит черты отца - но скоро заметил, что следует не реальным чертам покойного, но тем чертам, что уже нарисованы в предыдущем портрете. Портреты жили отдельно, в известном смысле они воплощали отца, но являлись самостоятельным образом. Подолгy стоя подле холстов, Павел научился беседовать с ними, это было похоже на спиритические сеансы. Он смотрел в глаза, только что изображенные им самим, следил за нарисованными им самим губами: вдруг отец заговорит, вдруг он так взглянет, что все станет ясно? Что сказал бы его отец, слушая сегодняшние разговоры? Что сказал бы он про сегодняшние идеи? Что сказал бы он про современное искусство, или про революцию на Украине, или про колбасу, что стала в сто раз дороже, или про передел страны? Он за революцию - или против? А если он был против той, кровавой, так, может быть, он за эту - мирную? Всякий сын старается понять, что думал его отец, и Павел не был исключением. Он глядел на портрет - и ему казалось, что взгляд отца темнеет, делается неприязненным. При жизни отец умел так посмотреть, что становилось стыдно за свои дела. Мать Павла, Елена Михайловна, не выносила такого взгляда, неприятно от такого взгляда делалось и Павлу. Теперь он много раз рисовал эти колючие глаза, и пристальный, беспокойный взгляд портрета, двигаясь по комнате, останавливался на газетах, на раскрытой книге, на облаке за окном. Отец всегда говорил мало, теперь Павлу требовалось расшифровывать то немногое, что помнилось. Некогда он переживал за небрежение отца к авангарду. Он помнил диалог отца с Леонидом Голенищевым. «Йозеф Бойс - гений», - сказал Леонид. «Гений? - переспросил отец, - это сказано в античном смысле? А вы, Леонид, - хор?» «Верно, - засмеялся Голенищев, - я хор судьбы». «И хором славите фашиста». «Бойс был на фронте, согласен. Но сам он - певец демократии». «Все эти символы стихий, зайцы и булыжники - это фашистская демократия такая?» Павел не понимал смысла слов. Или отец попросту - как и всякий интеллигентный человек в России - ненавидел революцию, и авангард для него был ее воплощением? Тогда дионисийская стихия авангарда должна ему казаться варварской. Прав ли он был? Может быть, революция искажает благие намерения авангарда?
Тогда придумался ответ: прогресс воплощает не сама по себе революция, но авангард - т. е. эстетическое движение, возникающее в порядке эволюции; на плечах же художественного авангарда приходит социальная революция. Зловещая дочь авангарда, впоследствии она самый авангард уничтожает, а контрреволюция (та, что рано или поздно призовет революцию к ответу) убитый авангард возрождает к жизни. Данная схема все более или менее объясняла, при этом безответным оставался только один вопрос: почему и революция, и контрреволюция исходят из одного авангарда? Как так может быть? Не может один и тот же идеал являться как импульсом прогресса, так и причиной эволюционной катастрофы?
Однако факт: авангардное искусство, смутные стремления и беспредметные импульсы, было равно востребовано и молодежью мятежных десятых и молодежью комфортных девяностых годов ушедшего века, оно было одинаково популярно и на российских пустынях, и среди манхэттенских небоскребов. Добро бы, речь шла об искусстве Древнего Междуречья, о чем-то таком, что настолько неразличимо в прошлом, что и никакой идеологической нагрузки не несет, - но ведь нет же! - речь шла именно об авангарде, о том, что должно питать самую современную мысль. Не может быть, чтобы просвещенный банкир и отсталый комиссар вдохновлялись одним и тем же! Но ведь вдохновляются же! И в тождестве пристрастий разных общественных слоев была неразрешимая загадка. Допустим, отец Осипа Стремовского, коммунист, оформлявший парады Красной армии, любил абстрактную живопись; но ведь и сын его, ненавидящий коммунизм и Красную армию, - тоже абстрактную живопись любил; и банкир в Техасе, неосведомленный о Красной армии, любил абстрактную живопись, и барон в Мюнхене, от Красной армии пострадавший, любил ее тоже. Как это все совместить? Ведь не может один поезд одновременно идти и в Нью-Йорк, и в Москву, где-то ошибка, кто-то сошел с ума: или кондуктор, или пассажир, или машинист. Скажут: что с того - все люди любят Рафаэля, потому что искусство выше противоречий. Но это к авангарду отношения не имеет: авангард потому и авангард, что содержит брутальные идеи. Не может один и тот же текст быть одновременно и про капитализм, и про равенство, и про экспроприацию частной собственности - путаница какая-то в книге, или каждый читает только свой абзац? Правда, возможно другое: вероятно, в авангардном искусстве содержатся начала всеобщего, вселенского характера - и они представляют ценность для всех. И повисает безответный вопрос: а в революции ценности общего характера тоже содержатся?
Понятно, что в анализе революции как антикультурного явления сказывалась привычка к дихотомии - т. е. к двухкомпонентному рассуждению, так удобно трактующему о мире. Умами просвещенной интеллигенции владели эти уютные противопоставления (их принято было называть бинарными оппозициями), как то: цивилизация - варварство, революция - эволюция, прогресс - застой, и так далее. Собственно говоря, деление христианского мира на мир капиталистический и социалистический этим бинарным оппозициям лишь способствовало. Исходя из этих оппозиций выстроить убедительную картину получается относительно легко, но иногда где-то происходит сбой. Рассуждение строится привычно и нормально: есть все же понятные всем вехи в современном мире, как то - зарплата, свобода слова, колбаса. Эти базовые понятия, как правило, помогают расшифровать самые мудреные исторические загадки. Есть колбаса - хорошо, нет колбасы - плохо; это внятная всем точка отсчета. Да, большевизм в России - суть воплощение варварства, застоя и революции, а нормальная жизнь рантье в Европе - суть воплощение цивилизации, прогресса и эволюции. Многое указывает именно на это. Однако почему выходит так, что революционные настроения в России родили искусство, символизирующее развитие общества, с точки зрения рантье в Люксембурге? Что-то тут не так и даже с колбасой - с этим эталоном общественного развития - получается непорядок: за революционные картины рантье платит колбасой, а сама революция колбасу уничтожает. Парадокс.
Спросить бы знающих людей, ученых, профессоров - пусть объяснят термины, текст и язык времени. Но те ученые, которых знал Павел, а именно старый Рихтер и профессор Татарников, отличались столь своеобычным нравом, что говорить с ними порой бывало затруднительно, особенно же на темы современного развития мысли. Спросишь что-нибудь, и сам не рад - такую получишь отповедь. Скажем, если кто интересовался, как Соломон Моисеевич Рихтер относится к какому-нибудь модному философу, ну, допустим, к Витгенштейну, то получал абсолютно невразумительный ответ. Соломон Моисеевич возбуждался, кричал, что текст сам по себе ничего не объясняет, что языку вообще веры нет, что есть еще контекст и подтекст, а главное - есть идея, объединяющая все вместе, - а идею можно выразить и молча. Поди разбери в этом потоке горячечной речи, что он имеет в виду. Профессор же Татарников в таких случаях обыкновенно щурился и говорил: Ах, Витгенштейн? Генерал, который отличился в славном деле при Клястицах? Отчего же, весьма недурной вояка. Но лично я ставлю Дибича-Забалканского выше. А, вы о другом Витгенштейне, об этом австрийском педерасте? Извините, сексуальными меньшинствами не интересуюсь. Не любитель, знаете ли. Староват я уже для экспериментов.