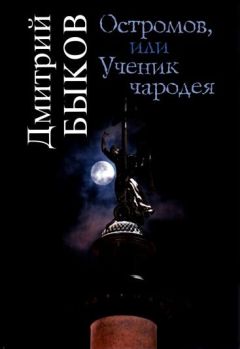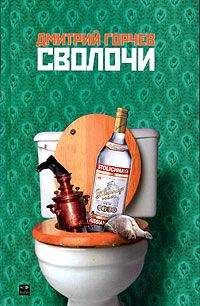Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Ты цо? — спросила она без злости, скорей с испугом.
— Ничего, — ответил Даня, переводя дыхание.
— Ну и цо? — спросила она.
Он молчал.
— Цо ходишь? И ходит и ходит, — сказала она и отвернулась. Потом поглядела на него еще раз, поняла что-то безнадежное и пошла.
Даня прислонился к стене. Ничего, сейчас он переведет дух и домчится до Каменноостровского; не могли же они так быстро разойтись. Он машинально проследил путь так странно приворожившей его чухонки: удивительно бесцветная личность, настолько ничего… Она шла — ток, ток, ток, — не совсем, однако, уверенно, словно только что ее вели и вдруг бросили. А куда ей было надо? Куда-то ведь было надо. Хотя все равно, куда ни иди, одна только неудобность кругом.
Из темно-красного дома вышел Алексей Алексеевич Галицкий, человек надеющийся: кончились папиросы, так вот купить папирос. Бросил полгода назад, но такой случай…
— Даня? — удивился он. — Хорошо, что ты здесь. Идем домой скорее.
— Что? — вскинулся Даня.
— Телеграмма от папы. Очень болен. Довольно очень сильно, — забормотал Галицкий, не желая повторять «при смерти». — Надо ехать, обоим надо ехать. Поднимайся скорей.
2— Что же, — начал Остромов, соединив длинные пальцы и положив на них длинный подбородок. — Как я и обещал, мы освоим сегодня вызов тех опасных, но могущественных сущностей, без помощи и охраны которых нечего даже надеяться достичь высшего знания.
Перед ним сидело на диво представительное собрание — не в смысле полноты, а просто всякой масонии по персонии, как говаривал отсутствующий почему-то геральдик Базанов. От заслуженного поколения наличествовала Пестерева, от среднего — вислоусый Степанов, от крестьянства — Тамаркина, от студенчества — Левыкин, от молодежи — Надя, освещенная странным, новым внутренним светом, в котором, на вкус Остромова, было нечто эгоистическое. Пожалуй, она была слишком румяна, а глаза слишком сияли, вплоть до масляности; он больше любил ее вдохновенной, хрупкой, а сейчас увидел до странности довольной, словно она впервые на его памяти была счастлива не за других, а за себя. Положительно, эту девушку следовало брать несчастной, — успеет нагулять радости, ищи потом свищи былую тонкую красу. Красивых-то много, поди найди особенную. Все это он сообразил мгновенно, но от Ирины не ускользнуло — он поймал ее недовольный, смутно подозрительный взгляд: все чувствовала. Он где-то читал о ясновидении влюбленных, но это неглубоко: ясновидствуют ревнивые, проницательность есть вариация подозрительности. Мнительный человек в быту и есть подозритель, которому нечего подозревать — жизнь его не приставила пока к настоящему делу. Вот Остромов всегда подозревал все вокруг себя, словно подтыкал одеяло, и потому любую опасность чуял за версту — это он так о себе думал, и покамест небезосновательно. Варвары не было. Странность, до чего в самом деле от всех по одному, — вот ведь и Варвара словно уступила Ирине право представительства от фракции «Обожающие». Хорошо, что не было главного обожающего: Остромов тяготился его беззаветной преданностью. То был не укол совести, разумеется, ибо кого же тут стыдиться, — разве не добровольны были их даяния, в конце концов, и разве не получали они, что хотели?! — но скорей неловкость художника перед заведомо бездарным подмастерьем. Взял в обучение, потому что за него, допустим, попросили, или потому, что вовсе нечем было прожить, или просто пришел и остался, — но месяцы идут, а он все так же безнадежен, как больное дитя, про которое родителям сказали, что со временем заговорит, а какое же заговорит, когда он глухой? Галицкий был именно глух, и не только не мог ничему выучиться, но и вообще не понимал, чему здесь учат, словно, как бы это сравнить, — да! словно пришел в музыкальный класс и любуется скрипачом, но думает, что здесь тренируются артистически пилить доску, а получающийся при этом звук — побочный эффект. Или что это такое гимнастическое упражнение. Раздражал Остромова и его внимательно полуоткрытый рот, и толстый нос — в самом деле, нечто дегенеративное; неужели и на него найдется своя? Впрочем, на всех находится.
Были также Велембовский, Савельева, Мурзина. Опоздав, как всегда, и прихрамывая, — плох, явно плох! — вошел задыхающийся Альтер, юноша-старец. И сидел в углу одинокий, как Иуда, Поленов, раскаявшийся, но не вполне еще прощенный, — ничего, вперед наука, будешь у меня бунтовать, — бросая тревожные взгляды то на Остромова, то на дверь, словно ища возможности сбежать. Нет, попалась, птичка, стой; еще не менее трех занятий буду то ласково, то презрительно напоминать о твоем отступничестве, доломаю, отдам на общее поругание, — пока наиболее склонный к бунту не сделается тишайшим, а прочим не будет дан достойный урок.
— Итак, — он сказал. — Итак-итак, — он сказал. Он был нынче бодр и в импровизационном ударе, и знал, что расскажет ярко, а главное, достоверно — вытащив наружу то, о чем каждый из них давно догадывался, нечто тайно-естественное, как всякое чудо. — Я должен предупредить вас о тех, без кого не может быть полно никакое познание, о сущностях, чья природа — зло, но в нашей воле обратить его в пользу. Для начала позволю себе напомнить иерархию тонкого мира по Великому Гримуару, с непременной поправкой на то, что известный нам текст составлялся уже в эпоху расцвета христианства, не без участия папы Льва III, этого великого собирателя тайнознаний, не забывавшего, однако, клеветать на источники. В его трактовке все это силы ада, рисовавшегося ему, если помните, как обыкновенное европейское правительство.
Левыкин старательно записывал, хоть схема этого правительства уже была дана кружку двумя месяцами ранее.
— Напомню, — слегка скучающим голосом продолжал Остромов, — что императором ада он назвал Люцифера, в антропософской традиции великого покровителя света и всякого познания вообще; принцем, или Великим князем, — Вельзевула, а великим герцогом — Астарота. В распоряжении сих троих находятся первый министр Люцефиуже, ведающий делами главных дворов Европы и вообще политикой; генерал Сатанахия, чьи подданные следят за ходом всех военных действий, включая гражданские; генерал Небирос, контролирующий искусства и некоторые области светского знания, и занимающий нас сегодня генерал Флерети, или Флуерти, о котором нам известно весьма мало, но который покровительствует именно нашим занятиям, а именно эзотерическому познанию.
Все эти имена, а равно иерархию, Остромов помнил наизусть; дальше начиналось вольное пространство импровизации.
— Как вы помните, во время первого восстания эонов ряд сил воздержался, надеясь, как всегда, что их угнетение не коснется. Люцифер с немногими избранными, последовавшими за ним, основал новое царство знания, где не было места угнетению, а место в иерархии определялось исключительно умом и внутренней силой. После изгнания Люцифера с вернейшими он был оклеветан и провозглашен дьяволом, а христианская мифология окончательно закрепила за ним ад. Отсюда пошли бесконечные злобные карикатуры, — Остромов презрительно усмехнулся, — рога, хвосты и прочая мерзость людей толстокожих и пошлых. Однако после его изгнания в небесных сферах воцарилась такая диктатура, такое отсутствие свободного духа, что за первыми мятежниками последовали вторые — так называемый генералитет, как трактует его Великий Гримуар. Их отпадение от Престола Сил и бегство в ряды люцифериан интеллектуально опустошило Сферу Света, и понадобилась жертва Христа, чтобы примирить враждующие пространства.
Эк я загнул, подумал он одобрительно.
— Если я правильно вас понимаю, — ровным тонким голосом заметил Альтергейм, — это означает, что так называемую моральность приписали себе сторонники твердой руки?
— Разумеется, — пожал плечами Остромов. — Рай в трактовке христианских эзотериков, ранних в особенности, рисуется чем-то вроде огромной гимназии, где не принято задавать лишних вопросов. Одно из тончайших откровений христианства — о пребывании Христа в аду — трактуется обычно как искупление или изведение оттуда раскаявшихся, но в действительности, как ясно всякому непредвзятому уму, это было заключение мира с люциферианами. Без них человек никогда не стал бы свободен. Время вертикального рая, где только молились, а мыслить считали преступлением, — истекло уже в конце Рима.
— Скорее всего так и было, — тихо, как бы себе, сказал Альтергейм.
— Вернемся, однако, к участникам второго бунта, из которых Флерети был самым юным и сильным, — продолжал Остромов. — В большинстве списков Гримуара мы находим среди его атрибутов диадему — символ мудрости, бич — символ стимуляции, и череп — символ бренности. Что означает сочетание? Ответ ясен и непосвященному: путь к мудрости лежит через стимуляцию, тогда как альтернативным путем является бренность. Если мы не будем подхлестывать себя, наш удел — падение в череп Флерети, в бездонную чашу мирового забвения.