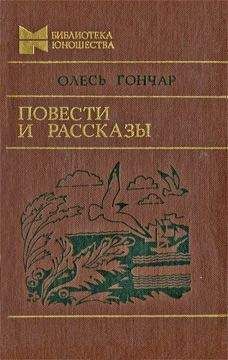Баловни судьбы - Кристенсен Марта
Что делает Оддвар Рюд? Оддвар Рюд аплодирует. Что делает толстомордый легаш слева от Оддвара Рюда? Толстомордый легаш тоже аплодирует. Что же, они только вдвоем аплодируют? Нет, не вдвоем. С доброй половины скамеек раздаются аплодисменты. Гады аплодируют. Все до одного аплодируют. И это уже не осторожные, робкие хлопки. А громкие, гордые, самодовольные аплодисменты. Они аплодируют, словно иначе и быть не могло.
Анне-Грете встает и смотрит на них. Маленькая, застенчивая Анне-Грете! В глазах у нее слезы, она говорит:
— Как вам не стыдно!
Аплодисменты сбиваются. Не дрогнув, Анне-Грете повторяет свои слова, теперь она только что не кричит, Эудун тоже поднимается и встает рядом с ней. И я поднимаюсь, и все остальные ребята тоже. Последними поднимаются родители Калле. Лица у них как полотно, они в растерянности, они оглядываются по сторонам, смотрят на членов суда, на полицейских, на судью. Но все-таки встают рядом с нами.
— Как вам не стыдно! — повторяет Анне-Грете.
Больше она ничего не в силах сказать. И мы все — тоже. Мы начинаем выходить из зала. Аплодисменты становятся все неуверенней и в конце концов смолкают. Бённа — он идет последним — берется за ручку высокой, тяжелой двери и, выходя, со всей силы хлопает ею.
Родители Калле вздрагивают, они смущены и растеряны, но все-таки остаются с нами.
Мы спускаемся по лестнице, шаги наши грохочут на весь огромный, похожий на Синг-Синг вестибюль. Вот сейчас, думаю я, самое время крикнуть, или запеть, или выкинуть еще что-нибудь, но мы не делаем ни того, ни другого. Молча скатываемся по лестнице и выходим на бледное, холодное январское солнце, обведенное яркой белой каймой, выходим к людям, спешащим по своим делам, поглощенным своей работой или своими огорчениями, к людям с замкнутыми, холодными, неприступными лицами, типичными для жителей Осло. Осло, Осло, город мой, что с тобой стало? Если б ты знал, как люди мечтают о тебе! Но сердце твое не больше булавочной головки, сперва ты огреешь несчастного по голове чем-нибудь тяжелым, а потом поворачиваешься к нему спиной.
По пути к Броду мы постепенно разделяемся. Почти все молчат. Папаша и мачеха Калле, прощаясь, пожимаот нам руки. Уно и Юнни заводят свои мотоциклы и уезжают. Ребята из клуба и из нашего старого класса останавливаются поговорить с компанией молодежи, толпящейся перед магазином. Мы им рассказываем, откуда идем. Они глядят на нас и понимающе кивают, кое-кто ругается, другие просто кивают.
— Вечная история, — обращается ко мне длинноволосый парень в афганской дубленке, лицо у него в угрях, глаза воспалены. — Легавые всегда правы.
— А что было с нашим Фредди, — говорит очкастый малый, попыхивая трубкой. — На прошлой неделе Фредди попал в участок, и его там избили, а потом отправили в больницу немного подштопать. И врач сказал им: «Если из вашего участка к нам попадет еще хоть один человек, подам на вас жалобу. На этой неделе от вас к нам поступает уже третий».
— Ну и как, подал он на них жалобу? — спрашивает Эудун.
— На них подашь, держи карман шире! — отвечает тот, что с трубкой. Я знаю одну девчонку, двое легавых взяли ее к себе в машину в Маридалене, обещали довезти до дому, а по дороге отмели у нее все до гроша и высадили машины, пришлось ей топать домой пешком. Думаешь, она может на них пожаловаться? Знаешь, что бывает, если человек жалуется?
— Вот гады! — говорит Бённа.
— Сволочи, — говорит Анне-Грете.
— Свиньи, — говорит парень в дубленке.
— В Штатах их так и зовут. Pigs. Другого имени они не заслуживают.
Три раза я видел вблизи глаза Анкера Юла Кристофферсена. Неприятное это зрелище, можешь мне поверить. Не знаю, о чем он тогда думал, да и не хочу знать.
Первый раз — в ту апрельскую ночь на Бюгдё, когда вылез из своей машины и шел к нам.
Второй раз — в суде, где я давал показания против него.
И третий — когда зачитали приговор и легавые начали аплодировать.
После этого у меня нет больше желания смотреть в глаза Анкеру Юлу Кристофферсену. Достаточно и этих трех раз. И если я когда-нибудь снова столкнусь с этим человеком, я просто повернусь к нему спиной.
Само собой, кое-кто убеждает меня, что глупо ненавидеть именно этого человека, именно Кристофферсена, а также собак из патрульной службы.
Причем таких много.
Например, Эудун, мы с ним часто спорим об этом, и он твердо стоит на своем.
Взять хотя бы вечер после суда. Пообедав дома, мы встретились, чтобы вместе выпить пива.
— Так не годится, Рейнерт, ты слишком пристрастен к Кристофферсену и овчаркам.
Это после того, как я сказал, что меня тошнит от одного вида типчика в крахмальном воротничке и галстуке, сидящего за угловым столиком, у его ног лежала молодая овчарка. Всякий раз, как открывается дверь, овчарка напрягается, настораживает уши и шевелит носом. И я не виноват, что всякий раз у меня по телу пробегает дрожь. Я говорю, что с удовольствием прикончил бы эту псину. Потому что знаю: по первому знаку хозяина она, не задумываясь, бросится на тебя и прокусит тебе ногу.
— Хорошо тебе рассуждать, сидя здесь, — говорю я Эудуну. — Насколько мне известно, на твоей шкуре нет следов от собачьих клыков. Или, может, есть?
— Нет, нету. И легавый в меня не стрелял, и собаки меня не жрали. Но мне тоже случалось бывать у них в лапах, может, забыл? И все-таки я считаю, что ты слишком пристрастен к этому легавому и к его овчарке, хотя он и убил Калле. Кто знает, может, он в душе мучится, только виду не показывает.
— Ну уж нет! — говорю я. — В такое я никогда не поверю. Сказанул тоже!
Эудун глядит на меня пристально и пытливо. Он не какой-нибудь хлюпик, наш Эудун, он большой, неповоротливый и даже кажется туповатым, пока не увидишь его глаз. Эти карие глаза видят все, от них сам черт не укроется. Я-то, понятное дело, смахиваю на неврастеника, если не на психа, грызу ногти, и вечно у меня во рту либо жвачка, либо окурок. Эудун не такой. Если ты его не знаешь, то легко примешь за медлительного тугодума, но, когда Эудун за что-нибудь берется, он отдается этому со всеми потрохами. Он не размазня. Потому он мне и нравится. Честно, он мне нравится и в то же время не очень, но больше, наверно, все-таки нравится.
— Ты можешь говорить, что имеешь полное право ненавидеть и презирать этого Кристофферсена, — продолжает Эудун. — О’кей! Тут я спорить не буду. Я и сам считаю его полным дерьмом. Можешь и овчарок ненавидеть, пожалуйста. И хватит, остановись на этом, нечего катить бочку на каждого, кто приходит в кафе с собакой!
— Что ты хочешь этим сказать? — угрюмо спрашиваю я. — Куда ты гнешь?
— А туда, что этот твой Кристофферсен — самый обыкновенный мужик! Никакое он не исключение. Можешь ненавидеть и презирать его сколько влезет, дело твое! Но почему ты забываешь о тех, кто вооружает полицию? Кто виноват, что этот несчастный легавый имел в ту ночь возможность шлепнуть Калле? Как по-твоему, кто это, а, Рейнерт? Да, да, и ты это знаешь не хуже меня. Что возьмешь с этого трусливого, растерянного легаша из патрульной службы, который ненавидит угонщиков машин и не понимает, что начальство выдало ему пистолет только для маскарада? Нет, не он виноват в том, что случилось. Бери выше, старик! Выше! Ищи среди тех, кто всем заправляет! Понял?
Эудун всегда так выступает. Думай о нем что угодно, но язык у него подвешен будь здоров. И, конечно, по-своему он прав. Только дело в том, что, когда он так говорит, все приобретает чересчур большие масштабы. Ненависть к заправилам, ненависть к богачам, презрение к соцам. Вот в чем дело. Я-то устроен иначе — сразу лезу в любую заваруху. Я не из тех, кто наблюдает со стороны.
А у него все словно куда-то отодвигается. Причем так далеко, что уже толком и не знаешь, кто они, эти люди. А я Анкера Юла Кристофферсена знаю отлично. Его лицо и голос, этого гада я с завязанными глазами, темной ночью и то узнаю. Все это я с ходу и выкладываю Эудуну.