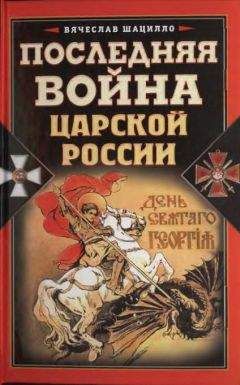Василий Белов - Год великого перелома
Марья Александровна еще во время масленицы уговорила Тоню вместе поехать в Вологду за покупками, и Тоня с ранней весны, когда отелилась Пеструха, копила деньги. Носила чуть не каждый день утренний удой, сдавала Зое Сопроновой. Маменька с братьями знали, куда и для чего она копит деньги, никто из родных на нее не сердился. Поедешь и поезжай. Как раз перед сенокосом и время свободное.
Но вот, когда объявился в Ольховице архангельский вербовщик, за одну слезную ночь удумала девка подписать вербовочную бумагу. И ни мать, ни брат с невесткой не могли своротить: поеду и все! Шесть месяцев не велик срок. Спасибо брату Евстафию, один он встал на ее сторону. Все равно, сказал, весною на сплав пошлют либо зимой в Сухую курью, пускай едет в Архангельск. Не пропадет, не маленькая…
Что думала, какие мысли таились сейчас под синим платочком? Никому, кроме Веры и Палашки, эти думушки не доверила бы, а им-то обеим не до нее нынче, ничего и не спрашивали. А спросить — то было чего…
Аким Дымов всю зиму выходил на шибановские беседы. Вроде бы к Тоне ходил, но они-то с Палашкой знали, из-за кого ходит в Шибаниху Аким Дымов. Ухаживал за ней только для виду, самого тянуло в другую сторону… Какая ему та сторона! Зря только ноги мнет… Новый начальник Митя Куземкин тоже к Тоне подсватывался, сулил у столбушки новую кашемировку. Нет, не нужна ей Митькина кашемировка. Не было ни одного дня, ни одной ночи, чтобы не вспомнилась ей гроза над ночной Ольховицей и та гостьба у ольховской божатушки, то сусло и тот запах от керосиновой лампы, те белые лавки и те половики, по которым ходила в ту темную, теплую грозовую ночь. Где он сейчас? Увезли и ничего не известно. Прошли слухи, что видели Владимира Сергеевича в Архангельске, в Соломбале. Но кто знает? Далеко до Белого моря…
Тоня задумчиво шевелит вожжиной, отмахивается от оводов. Платочек вышитый белый давно мокрый от пота. Володя, словно угадывая ее невеселые думы, шутливо обнимает ее за плечи, но она знает, что Володя обнимает ее вместо Марьи Александровны. Того и гляди и за пазуху сунет свою ручищу.
Тоня ругается с Зыриным и слышит, как Усов кричит Кинде Судейкину:
— Сворачивай ближе к мостику! Покормим часик-другой…
Лошадей распрягли около моста у какой-то речушки, пустили кормиться. Зырин, не раздумывая долго, побежал за кусты купаться. Усов начал развязывать свою корзину с харчами. Тоня отряхнула пыль с нового бордового сарафана и разулась. Материнские с пуговками полусапожки она берегла больше всего. Марья Александровна тоже спрыгнула на траву.
— Иди, Гуря, сюды, пирога дам, — крикнул Судейкин. — Иди, не бойся.
Но Гуря не остановился. Он уходил по дороге все дальше и дальше.
Часа полтора кормили у мостика лошадей, подкормились немного и сами. И опять запело Митькино колесо, вновь отдохнувшие кони вывезли ездоков на большую дорогу. На привале Павел хотел отвязать кубышку с колесной мазью, но Усов отказался мазать колеса:
— Доеду и так!
Судейкин предложил:
— Ты, Димитрей, посей в ступицу-то, оно и не будет скрипать. Сурьезно советую…
Усов не знал, обидеться или нет за этот совет.
Павел, сдержав улыбку, пересел на свою подводу, к Судейкину. Взял вожжи в свои руки. Проехали еще один волок. Поле еще одной волости встретило путников полуденным зноем, легким, еле заметным, но слегка освежающим ветерком. Оводов сразу убавилось. В струях дальнего марева дрожали, переливались очертания полевых изгородей, сеновалов, амбаров и бань. Приоткрылся вид большой деревни. Павел обернулся к Судейкину:
— А куда Антонида-то собралась, в Вологду что ли?
— Туды. Говорит, в гости к наставницам. А я так думаю, что убегает от сплаву. Куземкин ее замуж тащит, она упирается. Вот он и пригрозил, што на сплав отправит.
— А что, и отправит ведь!
— Отправит, — согласился Киндя. — Это дело такое. Чево нам-то с тобой будет, не знаешь? Сроду перед судом не стоял, под старость сподобился. Эх, ёствой корень, куды нас кривая власть вывезла! А Данилович? То сплав, то лесозаготовки. Вон теперь пятилетку придумали, заём какой-то. А у кого займуют? У меня взаймы дать нечего, одна пустая мотня. Только и знают мужиков пугать, прижимать, судить да ругать, да в турму сажать. Да ведь и стрылят, возьмут не дорого! Вон про Фоку Бебякина из Устюга в газете написано. Калинин помиловать отказал, стрылили, как зайца. Либо вон братанов из Катромы, тож стр…
— Молчи! — Павел оборвал Судейкина. Тот заглох на полслове. Сжимал челюсти Павел, шел рядом с телегой, сделанной дедком Никитой. Читал он про все расстрелы, о которых писали газеты, знал он, что и отец Данило Семенович, и кузнец Гаврило по прошлогодним постановлениям подлежали расстрелу. Где лежат отцовы-то косточки? Где тесть, Иван Никитич? Тоже, может быть, нету живого.
— Молчи, Киндя… — потише, примиряюще добавил Павел. — Лучше не говорить…
— Да как, Данилович, промолчишь? Тебя вот в суд, меня в свидетели. Вон подъезжаем к большой деревне. Ты тут не ночёвывал? Я-то в этой деревне, помню, огурцы воровал. Ехали мы, значит, с Ванюхой Нечаевым из Онеги. После Успенья дело было. Проголодались. Ночью, людей будить неохота. Я чужих огурцов нарвал. Через год еду мимо того дома, покраснел, что красная девка. Чуешь, вроде гармонья поет?
Они подъезжали к большой деревне. Павел открыл отвод, пропустил все три подводы, закрыл за ними ворота и догнал обоз.
У часовни, посредине деревни, оказалась порядочная праздничная толпа. Нарядные девки и бабы глядели на чью-то пляску, играла гармонь.
— Киндя, а што за праздник?
— Видно Петров день, — ответил Судейкин.
— Петров день? Дак ведь я именинник! Стой, Карько, торы! Поглядим, как в чужих волостях гуляют.
Судейкина не пришлось уговаривать. Он по-ребячьи ловко спрыгнул с телеги, бросил мерину охапку травы:
— Вишь, как пляшут, может, и коммунистов у их нет. Наверно, и пива наварено.
Две других подводы тоже сделали остановку.
V
У часовни две девки плясали кружком да так тщательно, что касались плечами друг дружки, когда в середине частушки смолкали, затем поворачивались и дробили в обратную сторону. Гармонист помогал рукам белой нестриженой головой, перекидывая ее со стороны на сторону. Играл натужно, будто дрова рубил, однако ж гармонь пела приятно, звонко, с печальной нежностью в ладах под правой и с приятной хрипотцой на басах под левой не совсем умелой рукой. Павел сразу почувствовал все это. Девки и бабы расступились, давая у часовни место проезжим.
Да, гармонь не вздыхала в своей печали, как подобало ей по ее тону и голосу, она захлебывалась от веселого праздничного восторга. Переборы у парня были все одинаковы, но в одном месте Володя Зырин ревниво изловил неизвестный ему переход.