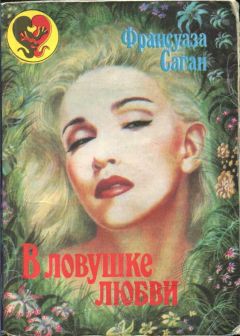Франсуаза Саган - Женщина в гриме
– К какой такой рекомендации? – произнесла она и одним махом выпила свой коктейль, «наверняка дьявольски крепкий», подумал Симон. – Так в чем, по-вашему, состоит моя рекомендация?
– Ну, видите ли, – сказал Симон, сразу же покраснев, – видите ли, мне хотелось бы отметить, что он выглядит также очень подходящим для кино.
– Почему «также»? – переспросила она с серьезным видом.
– Также и для кино.
– Но в связи с чем «также»?
– Ах, я так запутался, – проговорил Симон. – В конце концов, дорогая Дориа, не мучьте меня, я вам заявляю, что сделаю все, чего вы только не пожелаете, для этого парня.
– Это правда? – спросила она, отбросив иронический тон. – Я могу рассчитывать на вас, месье Бежар? Или вы просто говорите мне это, чтобы загладить ваш промах?
– Я сказал это всерьез, – заявил Симон. – Я сам займусь им и обеспечением средств для его существования.
– А заодно и его нравственностью? – осведомилась она. – Я считала этого парня еще достаточно молодым, чтобы испытывать муки любви. Вы обещаете мне не смеяться? Вспомните сами, как тягостны муки любви.
– Мне не надо даже делать усилий ради этого, – высказался Симон, улыбаясь. – Я слишком хорошо это помню.
Он поднял глаза и встретился взглядом с ее горящими как уголь глазами, которые смотрели на него с нежностью.
– Вы знаете… – начал было он.
Но она с силой приложила палец к его губам, так что он прикусил язык и сразу протрезвел.
– Да, я знаю, – произнесла она, – и учтите, я даже иногда об этом думаю!
– Но в чем дело? Что-то тут не вяжется, – с легкостью заявил Симон.
– Стоп! – нервно воскликнула Дориаччи. – Я думала о вас, чтобы убедить Андреа в моей неверности, в моей развращенности. И вдруг я поняла, что это не пройдет: он просто не поверит.
– Из-за меня или из-за вас? – спросил Симон.
– Из-за меня, само собой. Я люблю молодое мясо, очень молодое, вы же знаете? Вы ведь внимательно прочитываете журналы?
– Я их читаю, но я им не верю, за исключением тех случаев, когда они меня хвалят, – пояснил он.
– Ну что ж, в данном случае они правы. Да, я полагаю, что Жильбер даст более правдоподобные сведения.
– А как вы хотели заставить поверить в это Андреа? И, между прочим, почему?
– Порядок ваших вопросов неправилен, – строго заметила она. – Мне хотелось, чтобы он в это поверил и больше не мечтал обо мне целыми неделями и не убеждал себя, будто я его буду ждать в Нью-Йорке. Я хочу, чтобы он в это поверил, потому что тогда он успокоится, и я тоже. Ну а если речь идет о том, как заставить его поверить, то я знаю, что существует единственное средство, мой дорогой Симон: чтобы поверить в измену, нужно все увидеть своими глазами. И я буду вам признательна, если вы согласитесь со мной в том, что необходимо разыграть подобную сцену: я приглашаю Андреа где-то часа в три под каким-нибудь пустячным предлогом к себе в каюту, где буду я, но буду не одна.
– Однако, – произнес обескураженный Симон, – я бы не очень хотел участвовать в этом.
– Обдумайте это, – сказала Дориаччи, и на лице ее неожиданно появилось усталое выражение, – и выпейте еще один сухой мартини, а то и два, а то и три за мое здоровье. Увы, я не располагаю временем, чтобы выпить вместе с вами: я остаюсь здесь, – закончила она и постучала кольцом по никелевому краю бара.
И Симон, поклонившись и произнеся какую-то замысловатую фразу, удалился, оставив Дориаччи наедине с блондинчиком Жильбером.
Через дверь бара он заметил Эдму Боте-Лебреш в изящном сине-белом туалете, кидавшую что-то через ограждение широким, мощным жестом сеятеля, неожиданным для нее… Симон был заинтригован: чайки не летают так низко… Но светловолосый бармен разрешил его недоумение, напомнив о существовании дельфинов, верных спутников мореплавателей. В обычной ситуации Симон немедленно побежал бы на палубу, придумал бы фильм, где играли бы дельфины одну роль, а Ольга – другую. Но теперь, когда он так преуспел, он не мог позволить себе подобного дилетантства. Ему не простят провала: ведь он уже добился успеха. И его режиссерская натура давала о себе знать, вопреки всему он уже с удовлетворением подумал о том, что ссора с Ольгой и вызванная ею душевная усталость позволят ему с самого начала взять в свой фильм очаровательную крошку Мельхиор, в которую влюблялись все французские мужчины без различия возрастов, несмотря на ее неумение рассуждать об Эйнштейне или Вагнере, и которая нравилась даже женщинам – чего никак нельзя сказать об Ольге. И если он больше не берет Ольгу, то может попытаться вернуть Константена, которому он в свое время отказал ради того, чтобы угодить ненавидевшей его Ольге. Он позаботится о красочных афишах для прокатчиков, таких, чтобы понравились даже в Нью-Йорке. Он ни на секунду не задавался вопросом, как объявить о своем решении Ольге: он слишком любил ее и слишком жестоко разочаровался, чтобы сохранять в момент их разрыва какую бы то ни было снисходительность. Нет, это не была преднамеренная месть: просто его измученное сердце стало нечувствительным к иной боли, кроме своей собственной.
Он вышел из столовой, закурил на залитой солнцем палубе, заложив руки в карманы старых брюк, с ощущением полнейшей свободы и в прекрасном настроении, какого давно уже не испытывал. Этот круиз поистине очарователен, и следовало признать, что Ольга, сама того не понимая, сделала хороший выбор. Ему, безусловно, нравилась Эдма; Эдма обращалась с ним, как с одноклассником, как с приятелем, с которым в последние годы просто не было возможности увидеться. Сейчас она кормила – или пыталась кормить – своих дельфинов, сопровождая это нелепыми жестами, пронзительными криками с командирскими интонациями, и все это вдруг показалось Симону чрезвычайно привлекательным. Подойдя к ней, он ласково положил ей руку на плечи, отчего Эдма Боте-Лебреш слегка подпрыгнула, но, похоже, восприняла это как должное, сама оперлась о его плечо и, смеясь, стала показывать ему дельфинов, точно они были ее личной собственностью. Она инстинктивно присваивает себе все вокруг: людей, суда, пейзажи, музыку, отметил про себя Симон, а теперь вот дельфинов.
– Вас будет мне недоставать, – проговорил он ворчливо. – Я буду скучать без вас, прелестная Эдма… А в Париже встретиться будет невозможно. Должно быть, в Париже ваш дом окружен Великой китайской стеной из сахарных голов, не так ли?
– Да ничего подобного! – заявила Эдма и вся встрепенулась, несколько удивленная переменам, произошедшим с Симоном: он отказался от роли жертвы, да еще и бесполой, и стал одиноким мужчиной-охотником, «что, само собой, идет ему намного больше!», подумала она, разглядывая его спокойные голубые глаза, его складную фигуру, эту чуть красноватую кожу, все еще густые, здоровые ярко-рыжие волосы. – Само собой разумеется, – продолжала она, – мы будем видеться этой зимой. Это вы у нас вечно в трудах и заботах, дорогой Симон, со своим фильмом и очередными капризами мадемуазель Ламуру – «ру» – на съемочной площадке.