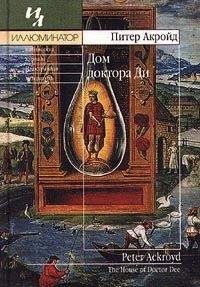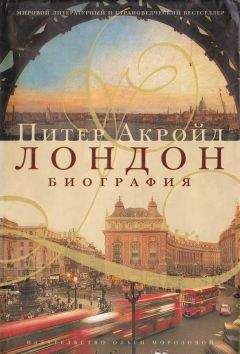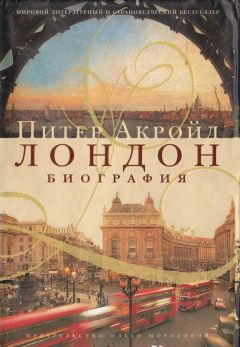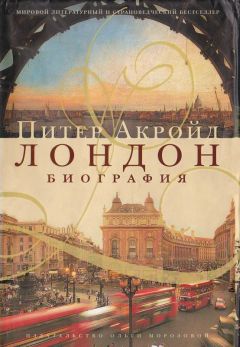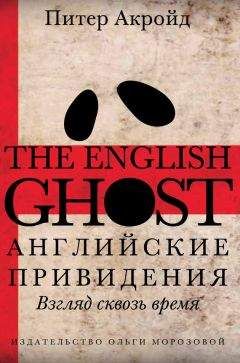Дом доктора Ди - Акройд Питер
«А! Это ты? Явился наконец?» Старуха вышла из телефонной будки и теперь кричала мне вслед. Я быстро зашагал прочь. «Знаешь, откуда на тротуарах столько дерьма? Это не собаки гадят. Это старики-пенсионеры». Она захохотала, а я все торопился дальше, к Феттер-лейн и Хай-Холборн. На первом этаже доходного дома Дайера есть магазинчик видеотехники; спеша к нему, я видел на дюжине экранов одно и то же изображение; там было столько света и энергии, что сама витрина, казалось, вот-вот полыхнет огнем и разлетится вдребезги. Когда я подошел еще ближе, оглядываясь, дабы удостовериться, что старуха меня не преследует, я стал различать на экранах множество несущихся куда-то звезд и планет. Видимо, это был один из тех эффектных научно-фантастических фильмов, которые снимались в семидесятых и начале восьмидесятых годов; рядом с витриной, целиком поглощенный зрелищем космического полета, стоял какой-то юноша. Он уперся руками в толстое стекло; создавалось впечатление, будто он распят на этом сияющем фоне. Я хотел сказать ему, что все здесь обман, кинематографические трюки, но для него это, возможно, было истинной картиной вселенной. Я ничего не сказал и прошел мимо.
Мне памятен тот день, когда я впервые начал понимать Лондон. Подросток лет пятнадцати-шестнадцати, я ехал на автобусе, идущем из Шепердс-Буша в Далидж; небо над Ноттинг-хилл-гейт и Куинзуэем было затянуто облаками, но вдруг в них открылась брешь и вырвавшийся оттуда солнечный луч упал на металлический поручень передо мной. Это ослепительное сверкание точно заворожило меня; вглядываясь в глубины света и сияющего металла, я ощутил такой необыкновенный восторг, что не смог усидеть на месте и выскочил из автобуса, когда он остановился у Мраморной арки. Я чувствовал, что меня посвятили в какую-то тайну – что я краем глаза увидел ту внутреннюю жизнь и реальность, которая скрывается во всех вещах. Я подумал о ней как о мире огня; поворачивая на Тайберн-Уэй, я верил, что смогу найти его следы повсюду. Но этот огонь был и во мне самом, и я обнаружил, что бегу по улицам, словно они – моя собственность. Каким-то неведомым образом я присутствовал при их рождении; вернее, внутри меня самого было нечто, всегда существовавшее в здешней почве, здешних камнях и здешнем воздухе. Теперь этот изначальный огонь покинул меня; должно быть, потому-то я и кажусь самому себе чужаком. Постепенно, с течением лет, город внутри меня померк.
Однако есть места, куда я возвращаюсь до сих пор. Временами меня тянет спуститься по Кингсленд-роуд и постоять у старой Хокстонской лечебницы для умалишенных рядом с Уорф-лейн; именно сюда, по ее собственной просьбе, Чарльз Лэм приводил свою сестру, и однажды я попытался пройти по их следам через поля, скрытые теперь под каменными мостовыми прилегающих улиц. Она всегда приносила с собой смирительную рубашку, и они плакали, добравшись до ворот лечебницы. Я останавливаюсь там, где стояли они, прямо перед входной аркой, и шепчу свое собственное имя. Бываю я и на Боро-Хай-стрит; я прохожу по ней от Саутуоркского моста до зданий бывшей Королевской тюрьмы и Маршалси [18] и, хотя эта прогулка всегда дается мне очень тяжело, неизменно повторяю ее снова и снова. Были случаи, когда я бродил по этому району до изнеможения, теряя ориентацию и способность думать. Я хотел, чтобы Старый город похоронил меня в себе, чтобы он стиснул меня и задушил. Неужели среди темных теней его прошлого не нашлось бы ни одной, способной поглотить меня? Однако не все мои путешествия сопровождались такими гнетущими чувствами. Было одно чудесное место, где меня всегда ожидал покой: я опять и опять возвращался на Фаунтин-корт в Темпле – там, рядом с маленьким круглым прудиком, под вязом, стояла деревянная скамейка. Ощущенье покоя здесь, в центре города, было настолько глубоким, что казалось мне порожденным каким-то важным событием минувших времен. А может быть, сюда год за годом приходили люди вроде меня и само место переняло спокойствие своих посетителей. Я часто думаю о смерти как о похожем состоянии – словно я чего-то жду рядом с вязом и прудом. Моего отца близкая смерть не пугала, а, наоборот, чуть ли не радовала: помню, как он насвистывал в ванной, уже зная, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он никогда не сокрушался, не жалел себя и не выказывал признаков беспокойства. Складывалось впечатление, будто ему известно кое-что о следующем этапе пути; как я упоминал, он был католиком, однако столь глубокую уверенность ему, похоже, придавали некие более личные убеждения. И вновь, выйдя с Хай-Холборн на Ред-Лайон-сквер, я задумался об унаследованном мною старом доме. Почему ни одна из прогулок по городу не привела меня на Клоук-лейн или в ее окрестности? Почему я избегал Кларкенуэлла или позабыл о нем?
Я достиг обломка каменной колонны, поставленной на Ред-Лайон-филдс в память об июньской резне 1780 года; в дни Гордоновских бунтов солдаты убили здесь несколько детей, а три месяца спустя Джон Уилкс объявил о сборе средств на этот памятник. Камень уже так растрескался и выветрился, что смахивал на кусок обыкновенной скалы, подточенной временем; но, повинуясь внезапному порыву, я стал на колени и дотронулся до него. В конце концов, меня связывало с этим местом и еще кое-что. Всего в нескольких ярдах отсюда, на углу Ред-Лайон-пассидж, я впервые увидел работы Пиранези. Альбом с его гравюрами, купленный мной у лоточника, назывался «Фантазии на тему темниц», но, по-моему, там не было ровно ничего фантастического. Я сразу узнал этот мир; я понял, что это и есть мой город.
Я принес книгу домой; хотя с тех пор минуло уже лет шесть или семь, я и сейчас помню, с каким восторгом переворачивал ее страницы. На первой гравюре были изображены две маленькие фигурки перед гигантской каменной лестницей; их окружал сплошной камень, взвихряющийся галереями, арками и куполами. Мир Пиранези был миром бесконечных каменных руин, запутанных переходов и заколоченных окон; здесь были каменные глыбы, тяжелые, мрачные, чьи контуры тонули в тени; здесь были гигантские кирпичные ниши, огромные полотнища из рваной ткани, веревки, блоки и деревянные краны, устремленные ввысь, к расколотым каменным балконам. Художник часто использовал обрамление в виде разрушенной арки или ворот – оно вовлекало меня в картину, и я ощущал себя ее частью; я тоже был в тюрьме.
Все тут выглядело брошенным: мост, повисший над пропастью меж двух наполовину уцелевших башен, гнилые стропила, разбитые окна, массивные портики с полустертыми надписями, которые уже нельзя было прочесть. Цивилизация великанов-строителей пришла в упадок и погибла, оставив после себя эти монументы. Но нет, так быть не могло. Здесь чувствовалась несокрушимая мощь, живая сила. Смерть не имела над ней власти; она была присуща самому этому миру. Я глядел на последнюю гравюру с изображением расплывчатой фигурки, поднимающейся по каменной лестнице лишь ради того, чтобы очутиться лицом к лицу с очередным неприступным каменным бастионом. Мне казалось, будто в этой крошечной фигурке есть что-то от меня самого; и вдруг моего плеча коснулся отец. Видимо, он уже наблюдал за мной некоторое время, потому что мягко заметил: «Знаешь, ведь все может быть и по-другому». Больше он ничего не сказал и, стоя сзади, положил ладонь мне на шею. Я стряхнул его руку и снова вперился в гравюру, обнаружив там еще один лестничный пролет, ведущий вниз, в какую-то каменную бездну. Тогда мне и пришло на ум, что город этот в действительности подземный. Вечный город для тех, кого поймало в свою ловушку время. Я все еще стоял на коленях перед памятником на Ред-Лайон-сквер, но вместе с тем словно входил в каменную стену полуподвала на Клоук-лейн. Я становился частью древнего дома.
Быстро поднявшись, я отряхнул одежду от грязи и зашагал в направлении Нью-Оксфорд-стрит и Тотнем-корт-роуд. Совсем рядом с Блумсбери-сквер есть клочок булыжной мостовой, где поставили несколько новых телефонов «Меркьюри», и в темноте я наткнулся на них. «Лондонский камень не такой, – заметил Дэниэл Мур, когда я показал ему „Фантазии на тему темниц“. – Прежде чем смотреть на Пиранези, надо выучить итальянский». Я хотел поделиться с ним своим восторгом, но он взирал на репродукции едва ли не с отвращением. «Он сентименталист, – сказал Мур, – а не провидец». – «Но разве ты не видишь, как тут пустынно?» – «Нет. На самом деле это не так. Может, ты и видишь только камень, ну а я вижу людей. Думаешь, почему я пишу свою книгу?» Эта книга, над которой он работал в течение всего нашего знакомства, была историей лондонского радикализма. Как-то он рассказал мне о ней в своей обычной застенчиво-пренебрежительной манере, но я запутался во всех этих магглтонианцах, «болтунах», беменистах и членах «Лондонской эпистолярной группы [19], и они стали казаться мне представителями одной гигантской секты или сообщества. Однако Мур души в них не чаял – этот придирчивый, утонченный человек был одержим идеями некоторых беспокойных, даже опасных лондонцев. Однажды он взял меня на прогулку по тавернам и молитвенным домам, где они собирались; таких мест осталось мало, большей частью на востоке Лондона в районе Лаймхауса и Шадуэлла, и они выглядели до того жалкими, до того запакощенными, что трудно было связать с ними прозрения и мечты их прежних посетителей. Насколько я понял из объяснений Дэниэла, беменисты верили, будто мужчины и женщины носят рай в себе и весь мир имеет облик одного человека; его называли Адамом Кадмоном, или Человеком-Вселенной. Не то чтобы весь космос представлялся им в виде человеческой фигуры – хотя были радикалы, последователи Сведенборга, которые считали, что это именно так и есть, – скорее, они наделяли наш мир и всю бытийствующую вселенную человеческими чертами. Мы зашли в «Семь звезд» на Эрроу-лейн, где в начале восемнадцатого века встречались моравские братья, и Дэниэл поведал мне историю о некоем мистике и маленькой девочке, которая все время просила его показать ей ангелов. Наконец он согласился, привел ее к себе в дом и поставил перед задрапированной нишей. «Ты действительно хочешь увидеть ангела?» – спросил он. Она упорствовала в своем желании, и тогда он отдернул занавесь; на стене за нею висело зеркало. «Гляди сюда, – сказал он. – Вот тебе ангел». – «Очаровательная история, Мэтью, не правда ли?» – «О да». – «Но ты заметил, насколько это в духе радикалистов? Самое смиренное существо может быть исполнено благодати. Божественное заключено внутри нас, а греха не существует вовсе. Нет ни рая, ни ада».