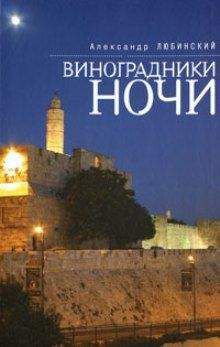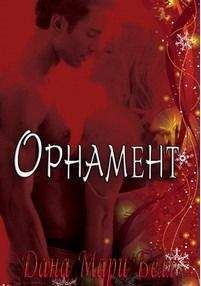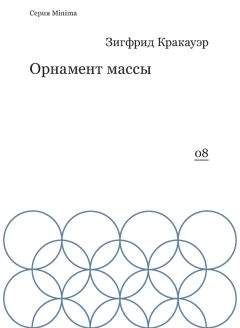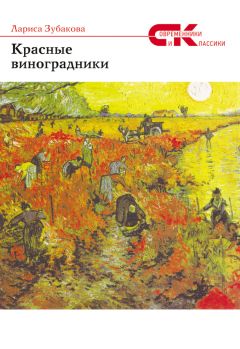Орнамент - Шикула Винцент
Мужик со сломанной ногой тем временем вздремнул, и теперь проснулся. Никелиха ушла уже на порядочное расстояние, но голос у него был сильный, и, приложив руки ко рту, он во все горло закричал: «Всего вам хорошего, кумушка! Разве я не говорил, что вас там приветят? Прав я был. Еще и счастья вам желают, столько счастья, что я бы с радостью с вами побежал, пошел бы с вами куда угодно. Слышите меня?» — крикнул он еще громче. «Если бы эта дурацкая нога не болела… Ведь не то смешно, что я скачу, а то, что сам над собой смеюсь».
Она несколько раз помахала ему рукой.
С той поры повсюду, где проходила, собирала она перышки и складывала их в мешочек, который подарил ей тот крестьянин. Часто она ходила просто так, побродить, ее тянуло к селам, где был достаток воды гусиные перышки, разносимые ветром, цепляются там за бугристую землю. Осенью, когда небо бывает ясным, из дворов и огородов, из фруктовых садов, отовсюду улетают припозднившиеся стайки певчих птиц, на лугах цветут безвременники, не напасшиеся досыта коровы возвращаются в сырые холодные хлева, где хозяин бросит им немного сена или кукурузных листьев, она ходила по деревням и спрашивала у хозяек: «У вас перо есть?»
«А сколько? Сколько бы вы хотели?»
«Ну, сколько?! Хотя бы на две подушки. Но если будет меньше, то мне и того хватит».
«Заходите!»
«Ах, какая вы добрая! Люди вам наверняка завидуют, раз вы по первой просьбе помочь готовы».
«Ну, вам я еще не помогла. Да и даром давать не собираюсь».
«Все равно, все равно. Вы к людям добры. Что себе, то и другим желаете. Такую женщину ценить надо, уважение ей оказывать».
«Как хорошо вы это сказали! Лучше уж я на свой счет ваши слова не приму, а то Господь меня накажет».
«Не накажет. За что же наказывать? Я долго уже среди людей хожу, знаю, что полагается, а что нет».
«И правда! Я вас и на прошлой неделе видела, вы целую перину несли».
«Две перины я тогда несла. Вот, видите! И снова я здесь!»
«Зачем вам столько пера? У вас что, семья такая большая?»
«Да, и семья большая. Семь дочерей в избе теснятся, сидят вокруг стола, перо щиплют и смеются, потому что одна другой краше, и это их веселит. Муж у меня маленький, но ловкий. Работы найти не смог, так начал трещотки делать. И я каждому объясняю, что у нас все время и Рождество, и Пасха. У других людей праздники чередуются: перед Рождеством они перо щиплют, а перед Пасхой трещотки крутят. А у нас оба праздника сразу, и так круглый год».
«Да уж, да уж».
«Вот куплю я перо, девки его пощиплют, а я потом продавать иду».
«В самом деле? И кто же все это покупает?»
«Трудно ли догадаться? Каждому хочется перинкой прикрыться, милая хозяюшка. Даже земля на Рождество белую шубку просит. А человеку вдвойне зябко, у него уже летом по телу мурашки бегают. Вот ему и хочется хотя бы в постели согреться».
«А выгодная это торговля?»
«Хозяюшка, да ведь дело не в выгоде, а в том, что людям холодно!»
«Вижу, какая вы мудрая. Все можете объяснить. Расскажите-ка еще раз про ваши трещотки, чтобы я и мужа могла этим повеселить!»
«Могу сказать лишь то, что их муж мой мастерит. Накануне Пасхи, бывает, бреду куда-нибудь ночью и как замечу церковного сторожа или мальчишку какого-нибудь, что так важно крутят трещотки, так засмеюсь и говорю — крути, крути! У меня дома твоя трещотка все равно раньше затрещала».
Да, вот так затейливо умела Уйгелиха с людьми поговорить, каждого могла речами и улыбкой к себе расположить, потому удача к ней и шла. Семь дочерей вырастила, они тоже перьевщицами стали. Пришли на очередь внучки и правнучки, потом близкие и дальние родственницы, множество женщин торговало пером и сейчас еще торгует. «Но их с каждым годом все меньше, поскольку меньше стало и кукурузы», — так говорил один крестьянин, которому пришлось вступить в кооператив, и это был ни кто иной, как Гергович, поскольку он тоже знает, что гусю нужна не только вода, но и трава, и кукуруза.
Гергович внимательно слушал и наверняка не ожидал такого быстрого конца, а тем более того, что и его имя будет вплетено в повествование. Он прижмурился, вытянул губы, видимо, собираясь рассмеяться, но перед тем набрал слишком много воздуха и уже не смог его удержать, с силой выдохнул, да так, что в носу засвистело и наверное даже зачесалось, поскольку он тут же стал свой нос тереть.
— Не смейся, — предупредил его Эвин отец. — Хотя бы перед чужим человеком воздержись.
Тот как будто хотел послушаться, состроил сокрушенную гримасу, но тем временем снова глубоко вдохнул, воздух и смех просились из него наружу, и он принялся дергаться в разные стороны и сипеть, изо рта у него выходили сначала неартикулированные звуки, постепенно они формировались в сухое «х», к которому примешивался и отзвук какого-то гласного, вроде некоего неполноценного «и», но нельзя сказать, что из этого возникал слог, а если и возникал, то какой-то очень размытый. Гергович снова вдохнул, но легкие уже не приняли воздух, и последовал долгий, мучительный кашель.
Он встал со стула, обеими руками схватился за стол, ногами уперся в пол и глядел на нас, выпучив глаза, словно просил, чтобы мы не смеялись, хотя наш смех был пока лишь тихим звуковым фоном. Он ворвался в нашу мелодию, и это было поистине великолепное вступление солирующего инструмента, он прошелся в стаккато штрихами по всем тонам четвертитонового ряда, выбежал в трехчастную октаву, проделал несколько фистульных мелодических па, а мы сопровождали его веселым незатейливым портаменто. Эвин отец дернулся и выпустил из себя целую стайку удивительных звуковых эффектов, но лишь для того, чтобы побудить своего ослабевшего приятеля к еще большему усилию. Дядюшка Гергович хрипел, не в силах выбраться из какого-то неимоверно высокого тона, движением стаккато он хотел сбежать на более низкие позиции, но голос не желал его слушаться, вновь и вновь подпрыгивая до трехчастной октавы. Он сел на корточки и принялся бить кулаками по коленям, а когда и это не помогло, медленно выпрямился, принял благородную, даже угрожающую позу, мощным движением вскинул голову и с этого неимоверно высокого тона взлетел еще на квинту выше.
Эвин отец так и подпрыгивал на стуле, но теперь из него вырывался уже не смех, а сипение. Мы с Эвой прочистили горло здоровым кашлем, Эвина мать убежала прокашляться на кухню. Гергович, шатаясь, походил по комнате, потом нашел свой стул и осторожно сел. Несколько раз он с силой выдохнул. Когда ему немного полегчало, он оглядел всех нас и покивал головой: — Да уж, задали вы мне жару!
Эвин отец взял со стола бутылку и хотел долить в стаканы, но, обессилев от смеха, вынужден был поставить ее назад.
— Дядюшка, долго жить будете, — сказала Эва.
— Но однажды его кондрашка хватит, — добавил ее отец.
Из Брусок я возвращался почти затемно. Было к тому же и холодно, а оделся я не бог весть как. К счастью, Эва связала для Йожо свитер, и все уговаривали меня надеть его, что я под конец и сделал. В Эвин зеленый рюкзак нагрузили гостинцев для Йожо и для меня, рюкзак я повесил на велосипед, Эвина мама тем временем подложила туда завернутые в газету и бумажные пакеты пирожки, кусок сала они тоже приберегли и готовы были пожертвовать им ради Йожо, Эва добавила к свитеру еще и шарф, им я тоже сразу обмотал себе шею, положили и кусок хлеба, мол, на счастье, пару яиц упаковали в носки, которые дядя посылал для Йожо, к носкам приложили бритвенные лезвия, хотя по-моему их было у нас в доме предостаточно, ну а женщины стали нахваливать яблоки и сливы из своего сада и предлагали мне взять их хотя бы понемножку, чтобы Йожо попробовал, ну и я, конечно, тоже.
Я попробовал их еще по дороге. И пирожки попробовал, хотя не было сказано, что они и для меня, может, им показалось, будто я свою долю и так уже съел. Пирожки были вкусные, со сливовым повидлом, разумеется — домашним, хорошо, что я попробовал, поскольку те, у них на столе, были с творогом. С повидлом вкуснее. Для Йожо собрали получше — конечно, он ведь их родственник, а я всего лишь его приятель. Проводили меня очень тепло, все вышли сначала во двор, потом на улицу, и там пришлось выпить с ними еще по рюмке сливовицы. — Это на дорожку. Чтобы вы не замерзли.