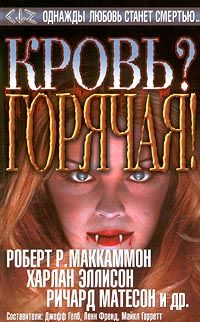Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
— Это разве не дорого? — спросила Нина.
Халвор кивнул и добавил:
— Зато после окончания этого института довольно легко найти работу.
Нина вспомнила кого-то, кто там учился.
— Он потом устроился на работу? — спросила я, а Нина расхохоталась.
— Нет, но этому было много причин.
Халвор с несвойственным ему юмором рассказал, как он ходил смотреть квартиру: женщина в розовом халате водила его по комнатам.
— Вот тут кухня с видом на зеленый задний двор, — тонким голосом пародировал Халвор квартирную хозяйку. — Здесь ванная, тут все в порядке, только вот унитаз немного засорился, надо спускать воду по два раза.
Мы смеялись.
— Эта комната станет вашей, если вы, конечно, захотите… А вот моя спальня, как видите, я люблю пастельные тона.
Мы все хохотали, а я снова подумала о приблудном коте. Халвор огладил себя по груди и сказал:
— На платье такой вырез! Да еще помада. А ей ведь не меньше сорока.
В прихожей Халвор завязывал шнурки на кроссовках, стоя на коленях. Мы с ним выпили по три банки пива, Нина — одну. В холодильнике осталось пять. Халвор, окрыленный и радостный, явно истолковал ситуацию неверно. Я услышала грохот захлопнувшейся внизу двери и подумала, что предпочла бы общаться с ним как можно меньше. Он ворвался в мою жизнь, я этого не хочу.
В детстве я как-то спросила у мамы, была ли тетя Лив бедной, и мама сказала, что бедность определяется не только количеством денег, но гораздо больше тем, какой выбор человек сделал в своей жизни. «В любом случае, у тетушки Лив не так уж мало денег, — сказала она. — Иначе стала бы она постоянно ездить к своему возлюбленному в Берген, нежиться на солнце в горах или есть покупной хлеб, вместо того чтобы печь самой».
Проигрыватель на полную мощь, слушаем «Жизнь на Марсе», за окном дождь, на полу выстроилась шеренга пустых бутылок. Кто бы мог подумать, что сейчас рождественские праздники.
— Рикард одолжил напольные весы своей сестре, так что теперь я понятия не имею, поправилась ли я за Рождество, — орет Нина, перекрикивая музыку.
— Зачем он это сделал? — спрашиваю я.
— Она собиралась садиться на диету.
Нина устраивается на диване.
Толлеф незаметно появляется в дверях, как это умеет только он, с зеленым рюкзаком за спиной, голова опущена. Громкая музыка ему не нравится, но нас видеть он рад. Он обнимает нас обеих, а потом окидывает недовольным взглядом бардак в комнате, недокрашенные стены гостиной, надрывающийся проигрыватель, и мы понимаем его без слов, очень хорошо понимаем.
— Прости! — говорим мы с Ниной хором. Толлеф подходит к проигрывателю и убавляет громкость.
— Но я обожаю эту песню, — разводит руками Нина.
Толлеф указывает на стену.
— Что, думаешь, мы не умеем красить? Так и скажи тогда, — подначивает Нина.
— Ну так и покрасили бы всю стену целиком! — восклицает Толлеф.
— И покрасили бы, но краска кончилась, — поясняю я.
— Может, взять из общих денег, как думаешь? — предлагает Нина.
— Может, и так, — отвечает Толлеф. — Но, строго говоря, ни я, ни Рикард особо не горели желанием перекрашивать гостиную и дали себя уговорить только потому, что кто-то утверждал, будто это нам ничего не будет стоить.
Нина вздыхает. Толлеф проводит пальцем по пятну на белом плинтусе.
— Это не краска, — заявляю я. — Может, кетчуп или клубничное варенье.
— Или кровь, — подхватывает Нина, тут уже Толлеф не может удержаться от смеха, и мы хохочем все втроем.
— Как Рождество, удалось? — спрашивает он.
— Не знаю, как Рождество может быть удачным, — отвечаю я.
— Да, удалось, удалось, — кивает Нина.
— Спасибо за книгу, — говорю я Толлефу.
— Спасибо за тапочки, — отвечает он, — как раз то, что нужно.
Меня охватывает сожаление или, скорее, стыд. С чего я взяла, что войлочные тапочки — подходящий подарок для Толлефа?
— И книга оказалась замечательная, — говорю я. Он подарил мне роман «Парящий над водой» Рагнара Ховланда.
— Очень прикольная книжка, — говорит Толлеф, — одна из самых классных, что я читал.
Нина подтягивает лосины вверх и разглядывает свои ноги.
— Ты что, и правда бреешь ноги? — спрашивает она.
— Иногда, — говорю я.
— И что, Руару это нравится?
— Думаю, да. А ты бреешь?
— Вот еще, — отвечает она. — Мне такое и в голову не приходит. Трулсу я нравлюсь такая, как есть.
Я слушала курс лекций Руара по модернистскому роману. Простор и акустика аудитории туманили мое сознание. Когда появлялся Руар, я воспринимала только форму, не содержание. Его голос, отрывочные предложения, например об «Улиссе»: «Подглядывать мысли персонажей — порой поразительно интимный процесс». Или о романе «В поисках утраченного времени»: «В высокобуржуазном обществе, где вращается Сван, развратная сексуальная жизнь может быть социально разрушительной, особенно для женщин». Руар прохаживался взад-вперед у доски. Почти всегда в рубашке и джинсах. Вот он, увлеченный и немного запыхавшийся, делает отступление и говорит о мадам Бовари в фиакре: «Хочет ли она, чтобы ее видели? Хочет?»
Нашу первую с Руаром ночь мы провели в гостинице. Мы вышли из Шато Нёф, где находится норвежское студенческое общество, пересекли Соргенфригата, прошли по Бугстадвейен и оказались в отеле на одной из поперечных улиц. Он как ни в чем не бывало подошел к стойке и заговорил с администратором, и мне пришло в голову, что он делал это далеко не впервые. Руару стоило только сказать: «О, какая ты красивая. Разве можно быть такой красавицей? Дай я на тебя посмотрю!» И все мои комплексы улетучивались, я чувствовала себя самой прекрасной женщиной на свете. На следующее утро мы завтракали вместе. Он обхватил чашку с кофе обеими руками — ими он ласкал меня ночью. Кто-то из персонала уронил поднос со стаканами, с оглушительным звоном они разлетелись на тысячу осколков, и Руар заметил: «Будто кто-то рассыпал по полу бриллианты». Льющийся из окон на столы поток света, сверкающие на полу бриллианты, его руки на чашке с кофе. Его руки. На свиданиях потом. Вот он пишет записку Анн, возится с ключами от машины, листает газету или бумаги перед лекцией, торопливо срывает с меня одежду. Я потеряла покой. Нервно трясла ногой, сидя в столовой, грызла карандаш на скамье в университетской аудитории, я словно застыла в этом состоянии и не могла сконцентрироваться ни на чем вообще, не могла готовиться к экзаменам. Когда Руар приходил домой, он был отцом и мужем, но когда он оставался со мной, то становился другим. Прежде чем подняться в номер, мы присели выпить в баре отеля. Вдруг откуда-то полились звуки фортепиано, как будто ненароком, невзначай, и в то же время музыка казалась очень подходящей моменту, словно так было задумано. Музыка словно обещала красоту и вечность, и мы смотрели друг на друга, в глазах — ирония и веселье, но в то же время осознание того, что все происходящее с нами наполнено смыслом.
Толлеф взбил яйца для омлета, достал лук и паприку из холодильника. Нож затупился, и Толлефу приходится с силой нажимать на него, чтобы порезать лук, я чувствую его едкий запах. Я помыла посуду, а Нина навела порядок в гостиной. До прихода Руара остается два часа.
Толлеф вызывает уважение особого рода, возможно, прежде всего потому, что он не старается его завоевать. Первое, о чем я подумала после знакомства с ним, — что в нем есть что-то достойное, и кажется, что достоинство это появилось вопреки чему-то, хотя я не смогла понять, что именно это было. Глядя на него, я вспоминаю мальчика, с которым училась вместе в гимназии, — тот был прикован к инвалидному креслу, и его это совершенно не смущало, никогда.
На доске рядом с холодильником пришпилена бумажка: «Толлеф — сдать пустые бутылки, пропылесосить. Моника — помыть ванную (до Рождества!!!)». Ниже: «Нина должна Рикарду 28 крон». А также наполовину стертая надпись: «Монике надо позвонить тете Лив». Я так ей и не позвонила, у меня не было времени. Сначала экзамены, потом праздники, потом Руар, а по вечерам — соревнования по триктраку. На моей полке в холодильнике большой стакан с вишневым йогуртом, сыр «Ярлсберг», тюбик майонеза и три банки пива. Сыр заплесневел.