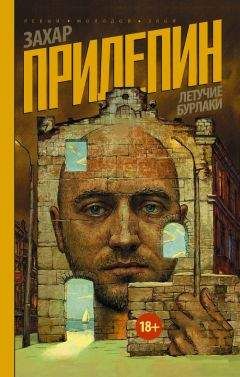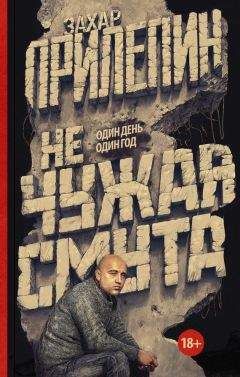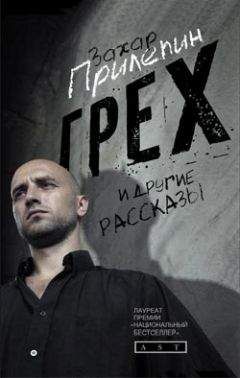Захар Прилепин - Дорога в декабре
Вот, скажем, Монах — не курит, не шутит, он сидит на кровати, бессмысленно копошится в своем рюкзаке.
Лицо его покрыто следами юношеской угревой сыпи. Он раздражает многих, почти всех. За безрадостный душевный настрой Язва называет его «потоскуха» — от слова «тоска». Кроме того, у Монаха всё валится из рук: то ложку он уронит, то тарелку, — что дало основание Язве называть его «ранимая потоскуха». Утром Монах, спускаясь по лестнице, упал, и Язва тут же окрестил его «падучей потоскухой».
Монах корябает ложкой о посуду, когда ест, он постукивает зубами о стакан, когда пьет чай, он быстро и неразборчиво отвечает, если его спрашивают. Издалека его голос похож на курлыканье индюка. Когда он ест, пьет или говорит, по всему его горлу движется кадык, украшенный несколькими длинными черными волосками. У него тошный вид.
— Ты чего, протух? — спрашивает его Язва.
— Что? — не понимает Монах. В слове «что» у Монаха букв шесть, причем не все они имеют обозначение в алфавите, — три буквы, составляющие произнесенное им слово, обрастают всевозможными свистящими призвуками.
Язва смотрит на него не отвечая. Сурово шмыгает носом и выходит покурить.
Монаху ясно, что его обидели, он еще глубже зарывается в свой рюкзак, куда с удовольствием забрался бы целиком и завязался изнутри. Копошась в рюкзаке, он пурхает горлом.
После обеда Монах, послонявшись по «почивальне», подходит к моей лежанке.
— Ну что, Сергей? — говорю, разглядывая его лоб.
Монах что-то бурчит в ответ.
— Как настроение? Воинственное? — спрашиваю я.
— Война — это плохо, — неожиданно разборчиво произносит Монах.
— О как… А почему?
— Убивать людей нельзя, — продолжает Монах.
— Кто бы мог подумать, — говорю, не нашедшись как сострить.
— А почему нельзя? — интересуется Женя Кизяков, приподнимая голову с соседней кровати.
— Бог запрещает.
— Откуда ты знаешь, что Он запрещает? — ухмыляется Кизяков.
— Глупый вопрос, — отвечает Монах. — Это Божья заповедь: «не убий». Спорить с Богом по крайней мере неумно. Соотношение разумов — как человек и муравей…
Его поучительный тон меня выводит из себя, но я улыбаюсь.
— А зверям Он запрещает убивать? — спрашиваю я.
Кизяков смотрит на нас и даже подмигивает мне.
— Звери бездумны, — отвечает Монах.
— Кто тебе сказал? — опять спрашивает Кизяков.
Монах молчит.
— Они бездумны, и, значит, у них нет Бога? — спрашиваю я.
— Бог един для всех земных тварей.
— Но собаке, например, той, что Шея застрелил, ей не нужен человечий Бог, она в Нем не нуждается. Ни в отпущении грехов, ни в благословении, ни в Страшном суде, — говорю я.
— Она бездумная тварь, собака, — отвечает Монах.
Я изумленно наблюдаю за движением его кадыка, такое ощущение, будто у него в горле переворачивается плод.
— Всё это старо… — неопределенно добавляет он, и кадык успокаивается, встает на место. Монах поворачивается, чтобы уйти.
— Погоди, Сергей, — останавливаю я его. — Я еще хочу сказать…
Монах уходит к своей кровати, садится с краю, словно он на чужом месте.
— Сергей! — зову его я.
Он оборачивается.
— Сказать кое-чего хочу.
Монах молчит.
— Как появляется вера? — говорю я, перевернувшись в его сторону. — Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомненья неразрешимы. Не умеющие разрешить свои сомнения начинают верить. Звери не умеют сомневаться, поэтому и верить им незачем. А человек возвел свое сомнение в абсолют.
— Это… ерунда… — отвечает Монах, он встает с кровати и вновь возвращается ко мне. — Ересь. Человек возвел в абсолют не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую… Только любовь человеческая предельна, а Бог — не имеет границ, Он вмещает в себя всю любовь мира. И сама Его сущность — это любовь.
— И Бог велел нам возлюбить любовь?
— Да. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего своего, потому что только на этом пути есть истина.
— И Он сказал: «Не убий, ибо гневающийся напрасно на брата своего подлежит суду».
— Сказал.
— А как ты думаешь, почему Он сказал «гневающийся напрасно»? Значит, можно гневаться не напрасно?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты знаешь что. Бог заповедовал нам возлюбить Бога, ближних своих и врагов своих, но не заповедовал нам любить врагов Божьих. Ты же читал жития святых — там описываются случаи, когда верующие убивали богохульников.
— Бог не принимает насилия ни в каком виде.
— А когда ты ребенку вытираешь сопли — это насилие? Когда врач заставляет женщину тужиться — насилие?
— Согласно заповеди Божьей убийство неприемлемо.
— Бог дал человеку волю бороться со злом и разум, чтобы он мог отличить напрасный гнев от гнева ненапрасного.
— Бессмысленно бороться со злом — на всё воля Божья.
— Если на всё Божья воля, так ты не умывайся по утрам — Бог тебя умоет. И подмоет. Не ешь — Он тебя накормит. Не лечи своего ребенка — Он его вылечит. А? Но ты же умываешься, Монах! Ты же набиваешь живот килькой, презрев Божью волю! Может, Он вообще не собирался тебя кормить!
— Не идиотничай, Егор. Ты хочешь сказать, что здесь ты выполняешь волю Божью?
— Я просто чувствую, что гнев мой не напрасен.
— Как ты можешь это почувствовать?
— А как человек почувствовал, что нужно принять священные книги как священные книги, а не как сказки Шахерезады?
— Человеку явился Христос. А тебе кто явился, кроме твоего самолюбия? Ты же ни во что не веришь, Егор!
— Эй, софисты, вы достали уже! — кричит Язва.
Я и не заметил, как он вернулся.
Мне очень хочется ответить Монаху, но я понимаю, что этот разговор не имеет конца. По крайней мере, сегодня его не суждено закончить.
Я выхожу из школы, я возбужден. Я все еще разговариваю с Монахом — про себя. Обернувшись на него, вновь усевшегося на кровать и начавшего копошиться в рюкзаке, я вижу, что и он со мной разговаривает — молча, сосредоточенно, глубоко уверенный в своей правоте.
Во дворе, за своей кухонькой, Плохиш, натаскав из школьного подвала поломанных ящиков, разжег костер. Пацаны сидят вокруг костра, курят, переговариваются. В ногах лежат автоматы.
Плохиш подбрасывает в огонь щепки, ему жарко. Он снимает тельняшку, остается в штанах и в берцах.
Выходит из школы Женя Кизяков.
— О, Плохиш, какой ты хорошенький! Как Наф-Наф.
— Иди ко мне, мой Ниф-Ниф! — дурит белотелый пухлый Плохиш, призывая Женю.
Кизяков спускается по ступенькам. Он шутливо хлопает Плохиша по спине:
— Потанцуем?