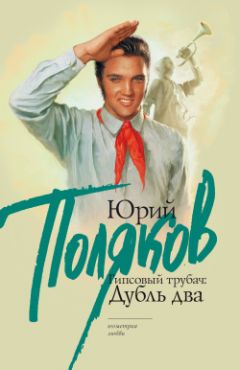Юрий Поляков - Конец фильма, или Гипсовый трубач
В итоге мы с Лапузиным остались совсем одни. Конечно, можно было найти других соратников, но поверьте, зарабатывать деньги — тяжкий, изматывающий труд. Мы устали. К тому же наступили иные времена, пришли новые люди, чуждые мистического трепета перед самим процессом превращения никчемного капустного поля в сумму со многими нулями, на которую можно купить все что захочешь. Они лишены сострадания и тупо набивают себя деньгами, как коровы — сеном. Если бы можно было выгодно продать слезинку ребенка, они бы заставили рыдать всех детей мира и хорошо бы на этом заработали! Они безжалостны… А вы… вы спасли меня, мой герой!
Наталья Павловна пересела к писателю на колени и долго, благодарно целовала его сначала в губы, потом в шею и наконец, расстегнув рубашку, в грудь, а он безнаказанными руками блуждал по ее горячему телу, тревожа невероятные места и запретные гендерные рельефы. Обоярова целовала его уже, между прочим, в живот, когда автор «Роковой взаимности» ощутил странную неуверенность в себе. Страстный порыв всего возбужденного организма почему-то не сообщался исполнительной части тела. От страха, что распалившаяся женщина вдруг обнаружит эту неприемлемость, писодей спросил, отстранившись:
— А как же так получилось, что все имущество теперь у Лапузина?
Вопрос показался Наталье Павловне настолько важным, что она, оставив лобзанья, распрямилась, приложила ладони к пылающим щекам и ответила, с трудом сдерживая бурное дыхание:
— Об этом… надо… отдельно… Потом. Хорошо?
— Почему же потом? У нас целая ночь впереди! — тонко улыбнулся Андрей Львович, борясь с внутренней паникой.
— Вам будет неприятно… Сейчас это ни к чему!
— Я хочу знать о вас все! — настаивал Кокотов, прислушиваясь к своему заупрямившемуся потенциалу.
— Вы правы, — согласилась бывшая пионерка, неохотно перебираясь с его колен назад в кресло. — В общем, мы ушли на покой. Федя увлекся яхтами. Участвовал в регатах. Я стала собирать живопись, открыла галерею на Солянке. У меня небольшая, но очень интересная коллекция советских ню. Обязательно вам покажу, когда с имущества снимут арест…
— Советские ню? — рассеянно переспросил автор «Беса наготы».
— Конечно! О, как же вы не понимаете? Коммунисты обнаженку никогда не жаловали. Они, скрепя сердце, могли разрешить разве что «Купанье колхозниц в летний зной». Все остальное выставкомы безжалостно рубили. Поэтому советский художник рисовал наготу для души, вкладывая в нее всё: и тайную нелюбовь к режиму, и подпольную самость, и запретное сладострастие. Ну, что такое ренуаровская купальщица в сравнении с «Рабфаковкой в душе»? Ерунда, колбасная витрина…
— И Бесстаев у вас есть? — полюбопытствовал Кокотов, мучась и не понимая, что же сломалось в его мужской всеотзывчивости.
— Фил? Конечно, он написал два моих портрета.
— Обнаженной?
— Ах, вот вы о чем! Не ревнуйте, не надо! Увы, всего лишь топлес. Лапузин, как и большинство выходцев из низов, оказался жутким ревнивцем, хотя перед свадьбой обещал мне полную, если понадобится, свободу. При этом сам он постоянно брал с собой на регаты загорелых аспиранток. А Тоньке я говорила: «Не связывайся с Бесстаевым! Он, конечно, любопытный экземпляр, но безвозвратно испорчен своими натурщицами…»
— Вы были знакомы с Авросимовой?
— Конечно, мы ходили к одному косметологу. Тоня мне очень помогла, когда Федя вляпался с липовым землеотводом, и взяла недорого — один коттедж на двенадцати сотках. Но она не из-за Фила застрелилась, нет!
— А из-за кого?
— Из-за детей! Поймите, Андрюша, ребенок для женщины — это шанс прожить еще одну, новую жизнь, в которой все будет лучше, умнее, чище, достойнее, чем получилось у нее самой. Вот почему мать страдает от ошибок ребенка так, словно это она их совершила! Тонька не простила себе, что, забывшись с Филом, упустила и погубила детей: сын — калека, а дочь свихнулась в пермских пещерах… Жуть! Чтобы успокоиться, ей надо было родить еще одного ребенка. Она могла! Это я не могла. Видно, Господь наказывает за брак без любви: зародыши умирали во мне непонятно почему. Вдруг останавливалось сердечко. Я и Святому Пантелеимону свечки ставила, и к Матроне ходила, и в Каппадокию, в Фаллическую долину, ездила. Бесполезно!
Врачи намекали, что дело не во мне, а в Феде — и от другого мужчины я вполне могу родить. Мама меня уговаривала, твердила, что Лапузин не догадается. Она, конечно, разбиралась в этом, нас у нее трое — и все от разных отцов. Но меня мучили сомнения, я посоветовалась с отцом Владимиром… Как, я вам еще не рассказывала про отца Владимира? Он из бывших военных. Нет, зачем рассказывать, мы с вами к нему поедем. У него приход. Роскошный двухуровневый храм семнадцатого века с новообретенным образом Богородицы! Вообразите: меняли лестничные ступеньки, подняли одну доску — и ахнули! Сколько лет попирали… Сначала икона была темная, не разглядишь, потом стала светлеть. До сих пор обновляется! Но отец Владимир запретил мне строго-настрого. Грех! Бери, говорит, из детского дома! Но я-то хотела своего, выношенного! Поймите, я вышла замуж за нелюбимого да еще вдобавок не могу родить от него ребенка!
И я пошла к другому батюшке, отцу Якову. Мы познакомились, когда он освящал фестиваль нонконформистских фильмов «Кинозавр». Он сам пришел к Богу с философского факультета МГУ, и ему выделили миленький храм Косьмы и Дамиана в Кулакове. Ах, какие воскресные проповеди он там закатывал! Красивый мужчина. Весь цвет интеллигенции приезжал послушать — писатели, актеры, атташе из посольств, политики, банкиры, журналисты… Узнав о моей беде, отец Яков улыбнулся (он вообще ко мне благоволит), задумался и стал рассуждать вслух: «Если Авраам, имея бесплодную жену Сарру, взял себе для продолжения рода Агарь, то почему бы Сарре, имея бесплодного мужа Авраама, не взять себе для той же надобности… э-э-э… Агафона? Какая, в сущности, разница?» И благословил меня!
«Агафон» явился вскоре сам собой. Я встретилась на аукционе с Гошей Дивочкиным. Как не увлечься мужчиной с такой забавной фамилией?
— Ну, не знаю… — покачал головой Кокотов, чью фамилию тоже многие находили забавной.
— Гоша выставил на торги «Обнаженную с геранью» — ранний этюд своего покойного отца, академика живописи Павла Ивановича Дивочкина. Добротная вещица с легким влиянием Скороходова. Мне она глянулась, мы разговорились. Узнав, что я собираю советские ню, Гоша пригласил меня в Царицыно, на мемориальную дачу, построенную после войны, когда Павел Иванович был главным портретистом советских полководцев и сказочно зарабатывал. Помните знаменитый портрет маршала Рыбалко с рушником? А Покрышкин на охоте? Но истинной страстью Дивочкина-старшего оказались «нюшечки», за что ему даже объявили два выговора с занесением, так как отзывчивые натурщицы беспрерывно от него беременели и, надеясь заарканить богатого живописца, шли жаловаться в партком МОСХа. Но поскольку там заседали коллеги, тоже озорничавшие с обнаженками, дело ограничивалось взысканиями, жениться вспыльчивого портретиста никто не заставлял.