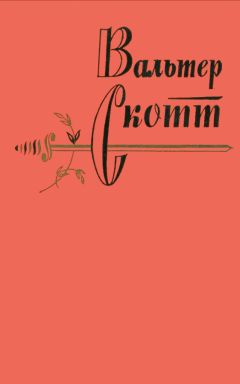Иэн Макьюэн - На берегу
Через много недель, тоже в жаркий день, они взяли ялик, поднялись по Черуэллу до паба «Вики армз», а потом спустились по течению обратно к лодочной станции. По пути они высадились около боярышника и лежали на берегу, в тени, Эдуард — на спине, жуя травинку, Флоренс — положив голову на его руку. Когда в разговоре наступала пауза, они слушали, как пошлепывают волны по днищу лодки и сама она с приглушенным стуком натыкается на причальный пень. Иногда ветерок доносил с Банбери-роуд успокоительный, невесомый шум транспорта. Замысловато пел дрозд, старательно повторяя каждую фразу; потом смолк из-за жары. Эдуард работал на разных временных работах, по большей части ухаживал за площадкой в крикетном клубе. Флоренс все свое время отдавала квартету. Выкроить одновременно часы для встречи было не всегда легко, но тем они были драгоценнее. В тот раз они урвали для себя вторую половину субботнего дня. Они знали, что это последние дни зрелого лета — было уже начало сентября, и в листве, пока еще бескомпромиссно зеленой, чувствовалась усталость. Разговор вернулся к тому дню, уже обросшему частной мифологией, когда они впервые увидели друг друга.
На вопрос Эдуарда, заданный несколько минут назад, Флоренс наконец ответила:
— Потому что ты был без пиджака.
— А в чем?
— Мм… В свободной белой рубашке, рукава засучены до локтей, полы почти вылезли…
— Чепуха.
— И серые фланелевые брюки, зашитые на колене, потрепанные парусиновые туфли — вот-вот попросят каши. И длинные волосы, почти закрывали уши.
— Что еще?
— Потому что вид был встрепанный, как будто ты дрался.
— Утром ездил на велосипеде.
Она приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо, и они стали смотреть в глаза друг другу. Это было новое для них и головокружительное переживание — целую минуту смотреть без стеснения в глаза другому взрослому. Самое близкое к постели, что у нас было, подумал он. Она вытащила травинку у него изо рта.
— Настоящий деревенский пентюх.
— Ладно. Что еще?
— Хорошо. Потому что остановился в дверях и оглядывал всех, как хозяин. Гордо. Вернее, нагло.
Он рассмеялся.
— Я на себя досадовал.
— Потом ты увидел меня, — сказала Флоренс. — И решил сыграть со мной в гляделки.
— Неправда. Ты взглянула на меня и решила, что второго взгляда я не стою.
Она поцеловала его, не крепко, но игриво — так ему показалось. Ходили легенды о девушках из хороших семей — что некоторые из них соглашаются легко и быстро; у него была слабая надежда, что она окажется одной из этих легендарных девушек. Но конечно, не на природе, не возле людной реки.
Он притянул ее к себе, так что они почти соприкоснулись носами и их лица оказались в тени.
— Значит, ты подумала тогда, что это любовь с первого взгляда?
Тон был легкомысленный и шутливый, но она решила отнестись к вопросу серьезно. Тяжелые ее тревоги были еще далеко впереди, но иногда она уже задумывалась, к чему это все ведет. С месяц назад они объяснились в любви друг к другу, это был восторг, а потом — для нее — еще и ночь полубессонницы, смутного ужаса от того, что повела себя импульсивно, чего-то важного не удержала, отдала что-то такое, чего не вправе отдавать. Но нельзя было устоять — это было так интересно, так ново, так лестно, такой бальзам на душу, такое освобождение — любить и говорить об этом, и хотелось все глубже в это погружаться. И теперь на берегу реки, в размаривающей жаре последних летних дней она сосредоточенно припоминала тот момент, когда он остановился при входе в зал собрания, и что она увидела и почувствовала, посмотрев в его сторону.
Чтобы подстегнуть память, она отодвинулась, выпрямилась и перевела взгляд с его лица на ленивую, илистую, зеленую реку. Река вдруг перестала быть мирной. Выше по течению, спускаясь к ним, две перегруженные лодки изображали морской бой; они сошлись под прямым углом и, поворачиваясь, прошли излучину с обычным гиканьем, пиратскими выкриками и плеском. Студенты усердно чудили, и это лишний раз напомнило Флоренс, как ей хочется уехать отсюда. Еще школьницами она и ее подруги считали студентов мелкой напастью, придурковатыми оккупантами их родного города.
Она вспоминала дальше. Одет был необычно, но заметила она лицо — задумчивое, мягкий овал, высокий лоб, темные брови вразлет, спокойствие взгляда, обежавшего собрание и остановившегося на ней так, словно он был не в зале, а все это вообразил и ее нафантазировал. Память некстати подсунула то, чего нельзя еще было услышать, — чуть-чуть гнусавый деревенский выговор, слегка отличавшийся от местного оксфордского.
Она снова повернулась к нему:
— Мне стало любопытно.
На самом деле интерес был даже более абстрактным. Ей и в голову не пришло удовлетворить свое любопытство. Она не думала, что они познакомятся, что она может каким-либо образом этому поспособствовать. Как будто любопытство существовало отдельно от нее самой — это ее как будто не было в зале. Влюбленность открыла ей, насколько она странна, насколько закупорена в своих повседневных мыслях. Всякий раз, когда Эдуард спрашивал: «Что ты чувствуешь?» или «О чем ты думаешь?» — она затруднялась с ответом. Неужели ей так поздно открылось, что она лишена простой способности, которой обладают все, психического механизма, настолько обыкновенного, что о нем даже не упоминают, — непосредственного чувственного отклика на события и людей и на свои собственные потребности и желания? Все эти годы она жила изолированно внутри себя и, как ни странно, — от себя, не желая или не смея оглянуться. В гулком зале с каменным полом и низкими, тяжелыми кровельными балками ее трудности с Эдуардом обозначились уже тогда, в первые секунды, едва только они встретились глазами.
Он родился в июле 1940 года, в ту неделю, когда началась битва за Британию. Его отец, Лайонел, скажет ему впоследствии, что тогда на два месяца история затаила дыхание, решая, будет ли первым языком Эдуарда немецкий. К десятому дню рождения он выяснил, что это была лишь фигура речи — в оккупированной части Франции, например, дети продолжали говорить по-французски. Тёрвилл-Хит даже не был деревней — горстка коттеджей, разбросанных вокруг леса и общинного выгона на широкой гряде над поселком Тёрвилл. В конце тридцатых годов северо-восточный край Чилтернских холмов — лондонский край — подвергся городскому натиску и превратился в пригородный эдем. А юго-западная часть, к югу от холма Бикон-хилл, где в один прекрасный день меловую гряду прорежет шоссе и по нему устремится поток машин к Бирмингему, — эта часть оставалась более или менее нетронутой.