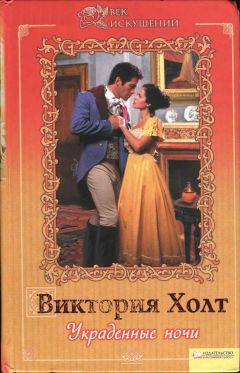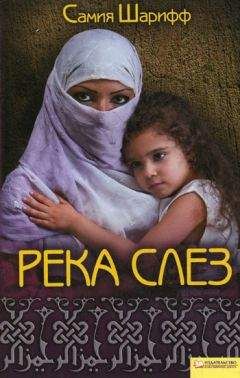Елена Катишонок - Свет в окне
– С посохом таскаться любой горазд, – ворчала бабуля, намеренно опуская слово «чугунный», – а ты хворого на ноги поставь, тогда и говори.
Укоризненный голос, Настя знала, к ней не имел отношения, и оставалось терпеливо переждать бабкино молчание, чтобы услышать продолжение: как таинственная Уленька поставила-таки Дмитрия Кузнецова на некрепкие ноги, как венчались в Покровской церкви (где чуланчик), и какими счастливыми голубыми глазами смотрел он на невесту из темных запавших глазниц.
Последней подробностью бабуля не делилась – ни к чему это ребенку. В сказках, чай, тоже не густо: добрый молодец да красна девица – и все тут, а коли написано: «ни в сказке сказать, ни пером описать», то понятно, что не уродина. По той же сказочной канве принялась вышивать бесхитростный узор – мол, стали жить-поживать и добра наживать. А коли жить негде? Где может приткнуться один, двоим места мало. Работник из Митеньки был никакой: шатало от слабости. Недолеченный плеврит обернулся туберкулезом; если удавалось снять угол, то ненадолго – кому нужен чахоточный жилец? Мыкались долго втроем, с сынишкой Сережей, пока, наконец, она не решилась махнуть рукой на город и вернуться. И то: что дом без хозяина сирота, что человек без дома.
Прибыли в ту самую деревню, где Уленька жила прежде, однако дома не нашли. Не нашли и самой деревни – от нее остался лишь погост на холме, где по сторонам от старых могил беспомощно торчали кое-как сбитые кривоватые кресты, по которым только и можно было понять, где стоишь, а сами могилы густо заросли бурьяном. С верхушки холма было видно то, что некогда было главной улицей деревни, с обветшавшими необитаемыми домами по обеим сторонам, редкими, будто случайно оставленными там и сям; да так, видно, и было, потому что между этими призраками домов зияли серые проплешины пожарищ. Слева от холма, за рощей виднелась дорога и можно было различить какие-то постройки.
Туда и направились.
Здесь и раньше, в царское время, жили люди, только называлось место не поселком, а «там, за погостом, на выселках», с непременным кивком в сторону болота. Селились ненадолго; в основном пришлые да те мужики, у которых не лежала душа к крестьянскому труду, потому как на выселках не пахали и не сеяли, а работой на торфе, судя по всему, прокормиться было можно. Деревенские девки, а с ними и Уленька, ходили на болото за клюквой и своими глазами видели огромную машину, вроде вагона, с высокой трубой и железной рукой, которая выгребала землю. Поговаривали, что будут класть рельсы, чтоб способнее было возить торф. Может, так оно и было, однако девкам строго-настрого запретили наведываться на болото – бог с ней, с клюквой, вон сколько чужих мужиков-то ошивается. Потом началась война, вагон с железной рукой куда-то подевался, а мужики – что свои, что чужие – пошли воевать; когда вернулись, было и вовсе не до болота: ждала земля.
Она и сейчас лежала, но не усталая и праздная, как бывало осенью, когда урожай собран, а мертвая, никому не нужная, как старуха, забытая в доме и родными, и самой смертью.
В поселке, тогда еще не «городского типа», Ульяна сразу пошла работать в больницу. Митенька все кашлял, торф копать не мог, зато работал пилой и топором: в поселке строили бараки. Разве про такое складывают сказки? Змея Горыныча не убивал, Елену Прекрасную не освобождал, зато куда более нужное дело сделал: поставил дом и принялся копать колодец. Выкопал, но застудил на ветру больную грудь, да так, что на этот раз не помогли ни мать-и-мачеха, ни даже молоко.
В больнице встретились – в больнице и простились.
…Когда, в какой момент Уленька вышла из сказки? Не иначе, как с последним подвигом героя. Сказочные царевичи, бывает, строят не только дома, но и дворцы, и копают колодцы, но в сказках они не умирают (иначе сами сказки не жили бы так долго), как умер Митенька, не успевший стать для внучки «дедулей», а Василисы и Марьюшки не остаются с детьми на руках, как Ульяна осталась с шестилетним Сережей – таким же, как отец, голубоглазым.
В поселковой больничке работал в то время, кроме врача, один фельдшер, поэтому акушерка и медсестра в одном лице была ценным человеком, и отныне обращались к ней не иначе как по имени и отчеству, хотя Ульяне Степановне не было еще тридцати.
…Тридцати не было, как мужа схоронила – там же, на холме. Была сирота, стала вдова – все равно что дважды сирота. Сколько раз при жизни досадовала на него и срывала сердце, а как не стало Митеньки, такая пустота в доме поселилась – хоть вой. Все чудилось: вот-вот дверь стукнет, послышатся виноватые нетвердые шаги и глухой кашель.
Остался сынок с голубыми глазами-незабудками: накормить, пожурить, приласкать, – да больница, где проводила почти все время. Ульяне часто казалось, что как повязала косынку медсестры тогда, в двадцатом, так словно и не снимала: белая льняная ткань отсекала часть лба и плотно покрывала густые русые косы с бронзовым отливом. Когда вдруг то один, то другой мужик начинали наведываться: «Не надо ль чего, Ульяна Степановна?..», отваживала спокойно и решительно. Разве отчимова любовь согреет ребенка?
Что-то рассказывала внучке, когда та подросла, да не все девчонке и знать надо.
Сереженька рос медленно, и хотя грудью не болел, долго оставался бледным и худеньким. Выручало Ульяшино ремесло. На болоте своя повитуха, которая не только принимает роды, но и помогает их избежать – это называлось «избавиться», – была незаменима. Она владела загадочным и необъяснимым даром: умела по каким-то неуловимым признакам распознавать беременность на самом раннем сроке. Строга была Ульяна Степановна и неразговорчива. Спросит, бывало, у незадачливой: «Рожать будешь или обратно доставать?», а потом кивнет строгим белым платком. «Избавляла» всегда аккуратно, и если надо было, чтобы муж не узнал, то от повитухи сроду никто ничего не дознался. За работу и сохранение тайны благодарили молоком.
Сереженька вырос. Вот карточка – только что приняли в пионеры, глаза торжественные и радостные, из-за стрижки «под нуль» личико еще худее кажется. Рядом вторая: густой чуб над высоким лбом – совсем взрослый парень, десятилетка за плечами. И в том же – сороковом – году снова «под нуль», взгляд испуганный: забрит.
Да так-то лучше, думала она поначалу. Сын таким красавцем вымахал – вот Митенька бы порадовался! Пусть Родине послужит, а то, как тракторные курсы закончил, на болото рвался. Ульяна не трактора боялась, а водки: там почти все пьют, особенно сезонные рабочие. В армии уму-разуму наберется да в возраст войдет.
Помертвела от тревоги, когда Сереженьку за границу отправили. Вернее, там еще вчера была заграница, чужая страна, а теперь стала тоже СССР – всю границу передвинули. Что будет с сыночком в чужом краю, бог знает где, – напротив, через море, писал он, Швеция. А там белофинны рядом! Спасибо, война с ними кончилась.