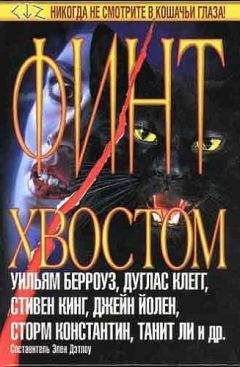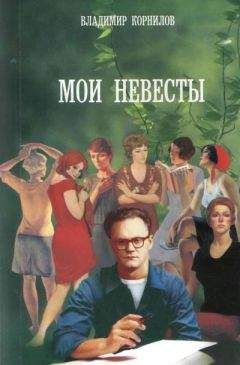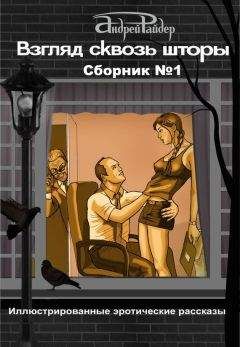Андрей Шульгин - Слёзы Анюты
Я сижу, несмело облокотившись на спинку полоумного стула, а он расхаживает вокруг, и нам обоим кажется, что длинная и узкая, словно горло астматика, комната, не что иное, как широченный армейский плац, — наверное, такое расстояние отмерили за этот вечер его неумолимошагающие стопы. Я чувству себя жертвой. И как всякая потерявшая веру жертва, я готов полюбить своего мучителя.
Его голова описывает дугу, деля горькое пространство комнатушки надвое. Он наклоняется ко мне и звонко хлопает своими ресницами. Этот звук, точь-в-точь такой же, какой издавали металлические набойки на новых сапогах оренбургского генерал-губернатора, жившего за полтора столетия до нас. Он начинает говорить, но я ясно чувствую, что слова, из которых он составил сегодняшнюю речь, уже были сказаны многие годы назад, — от них остро пахнет плесенью и чужим вниманием. Чьи же это слова? Я теряюсь в догадках, и мне почему-то кажется, что слова принадлежат всё тому же оренбургскому генерал-губернатору. Может быть, они сорвались с сановных уст, когда генерал-губернатор, перегнувшись через край балкона, пикантной архитектурной деталью выступающего над первым этажом его резиденции, спесивый и грубый, распекал своих нерадивых помощников, а быть может, он шептал их юной кокетке, из любопытства пришедшей на ночное свидание в губернаторский сад.
Слова продолжают литься, и я с надеждой и остервенением всматриваюсь в полутёмное лицо своего изувера. Я не хочу этих слов, но они с жадностью цепляются за мои уши, взявшись за руки, водят хороводы, заставляя вдумываться в смысл. Слова говорят о том, что нет нужды бояться ада и посмертного наказания, это выдумки недалёких оптимистов, которым во все времена не хватает мужества на правду. Слова говорят о многовековом лицемерии, тяжёлыми цепями лязгающем на шее у человека. Они говорят и о нас самих — пустых ничтожных существах, выдумавших ад и смерть для того, чтобы не признаться самим себе, что они уже в аду. Да-да, слова повторяют эту фразу несколько раз кряду. Именно, — то, что окружает нас и есть ад, а мы не более чем умершие грешники. Мы не помним наших грехов, но обречены страдать из-за них без конца. Не в силах вынести эту безутешную муку, люди, а вернее умершие грешники, выдумали для себя жизнь, которой и называют вечные адские страдания. Они выдумали и какой-то ад, только лишь для того, чтобы не замечать ада этого, — во сто крат более мучительного и страшного, чем любая человеческая фантазия. Они придумали также, что, того далёкого и неведомого ада можно избежать, но как тщетна и безобразна эта мечта, если знать что никакими силами невозможно вырваться из ада этого.
Униженный осознанием самообмана, я что-то лепечу в защиту традиционных воззрений на жизнь, но он, даже не желая слушать, обдаёт меня презрительной ухмылкой, выкидывая вперёд себя длинную сухую руку с выставленным пальцем, которым водит у моего носа, и я думаю, что точно таким движением, — коротким и властным, — государственный муж из Оренбурга бросал на расправу с крестьянским бунтом раскрасневшихся от жаркого степного солнца солдат. И я хочу закричать, что ненавижу его и генерал-губернатора, что пусть они катятся куда хотят, и что ноги моей больше не будет в этой комнатёнке с узкими стенами и корявым воздухом, но вместо этого издаю какое-то бормотание, а голова моя — о ужас! — сама делает несколько кивков сверху вниз, молчаливо подтверждая формальное согласие с доводами собеседника.
Я, лихорадочно и неправдиво, давая поймать себя на лжи, выдумываю поводы, из-за которых должен немедленно уйти отсюда. Подымаюсь со стула, посылающего мне на прощание презрительный скрип, и быстро направляюсь к двери. Уже на пороге, мучимый добродетельностью, я оборачиваюсь и вижу его, стоящего посреди комнаты, усталого и гордого, каким, мог бы стоять и генерал-губернатор, на опустевшем после смотра войск плацу, расстегнувший тяжёлый от орденов мундир и тусклым преисполненным мировой грусти взглядом наблюдающий, как меркнет в лучах заката его Оренбург.
IIЛето печёт, зноем дышит. Реки пьёт, да поля колосит. Зверей дурманит, леса сушит, птиц из гнёзд выгоняет, ягоды на кустах силой земляной наливает. И везде, куда глаза хватает — в полях и чащобах, в болотах и степях, на пригорках и под ними, везде из земли травы зелёные выпирают, с ветрами о чём-то шелестят-шепчутся, — да разве ведомы те речи людям грешным.
Вон подле старых селищ заброшенных, будто кресты крохотные из земли пробиваются, то листья Разрыв-травы к солнцу тянутся, цветы на себе распускают, словно огоньки малые. Приложи Разрыв-траву к замку любому, к двери дубовой-несворотимой — вмиг сила волшебная сорвёт препону с петель, да замок отворит-хрустнет, откроет пред человеком, лихим ли, добрым ли, утробу дома всякого — заходи что хочешь твори, хозяин-барин. А там, на берегах озёрных, стрела длинная с цветом багровым, над гладью водной взлетела, колышется на ветру, путника к себе манит, это Плакун-трава, кто найдёт её, корень глубокий подкопает, да сохранит-высушит, не пронять того нечистой силе, никогда и ни за что. А на самом озере, цветком большим и душистым под солнцем палящим распахнувшимся, цветёт Одолень-трава, качает её озеро тёмноглазое, баюкает, хранит, ибо знает, что тому, у кого Одолень-трава никакая болячка нестрашна, и таланты всякие сами просыпаются, хочешь иконы мажь, а хочешь, торгуй-загребай, везде удача тебя ждёт. В полях, сквозь марево белесой дымки пробивается жёлто-голубой цвет Сон-травы, только не дымка то вовсе и не туман вокруг стеблей тонких вьётся, то сны людские над травой густятся, чей сон к траве притянет, тот человек ночью ближайшей увидит то, что сбудется обязательно. А лихое? доброе? — тут Сон-трава не в ответе. В лесах же, Прострел-трава кустится, с ней ни пожар нестрашен, ни раны жуткие. Захиреет огонь в том доме, где под бревном Прострел-трава сберегается, в пожарище смрадное не обратится, а раны у хозяев вмиг загоятся, следа не оставят. Там же, в лесах угрюмых, Перенос-трава лето встречает, темны листья ее, будто мысли вещуна-злыдника, да только тому, у кого она в кармане ни одна река, ни озеро, ни болото застойное-гнилушное могилой вечной не станет. Отовсюду его Перенос-трава выручит, на суху землю выведет. А неподолёк Перенос-травы, в овражках неглубоких, Сава-трава к земле жмётся, неказисты и жалостны листочки её сухонькие, в полвершка росту-то, но неприведи страннику случайному с нею повстречаться — ум из головы его вон выйдет. Так и будет всю жизнь блаживать, сердешный. Но вот если со знанием да делом к Саве-траве подойти, — станет она любому охотнику верной подмогой, — на след зверя жирного-пушистого выведет. А вот тот, у кого в одёже Блекота-трава зашита, сам быстрее и ловчее любого зверя дикого станет. Бежать сможет без устали, снедь зубами рвать раз в седмицу будет, на всякое дерево высокое да тонкое, в один присест, заберётся.
Шелестят травы, над землёю подымаются, силу таят. Солнцу летнему, яриле пекучему листья да цветы свои подставляют, дурманом льют, зверей да людей чарами шелудят. Но вот гаснет ярило-солнышко, сумерками умывается, ко сну собирается, закатом прощается, рассвета ждать велит. Наступает тьма безглазая-вязкая, звёзды над деревами светом нездешним маются, забулдыгу подгулявшего на себя смотреть заставляют, да вздыхать горько-болестно. Замирает всё, словно неживое, а чьей-то рукой ловкой-умелой на картине масляной выведено. Не тишина будто, а кисель тягучий… Только недолго тишь благодатная над лесами и полями, оврагами и буераками, простоит. Шевельнулось что-то, от земли будто оторвалось, ввысь понеслось к самим звёздам белолицым. А во все стороны, как круги по воде стоячей, только эхо разносится «Ух, ух, ух…». Дрыгают зори в такт уханью светом своим, вниз щурятся. Что это? Кто уханьем-роптаньем тишину боломутит, звёзды высокие щекочет? То Кликун-трава, что прозвана так за глас свой ночной, на зори ухает-кликует. Любы они ей, неба ночного странницы, как завидит их среброоких, бросает ввысь кличь свой ухабистый. Силы в той Кликун-траве не меряно, ни одному человеку не покорится-уступит, сорвать себя не даст, отринет прочь от себя, насилу кости потом соберешь. А сама видом будто человек, всё при ней — стебель толст и могуч всё одно, что стан мужика-трудяги, два листа широких, по бокам вгору рвутся до зорь достать блажат, как руки в молитве возведённые, цветок бубоном ворсистым на ветру колышется, что человек главою буйною раскачивает, а под землёю два корня крепких-узловых врозь расходятся — ноги-раскоряки это, не иначе. Такая она, Кликун-трава, для всех трав прочих, что отец родной.
IIIКликун подпоясался рассветом, за плечи перекинул запах леса, и шагнул из чащобы бурой на дорогу. Дорога бесшабашно вилась под ногами и уводила в степь. Кликуну было легко и задорно шагать в этот ранний час, цепляя шершавыми ладонями утреннюю негу. Из травы придорожной, из островков леса шерстящихся прохладой посреди опалённой равнины, переливались разноголосыми бубенцами голоса птах ранних, словно благословляющих Кликуна на задуманное.