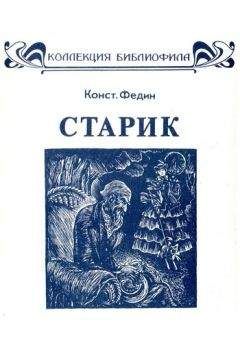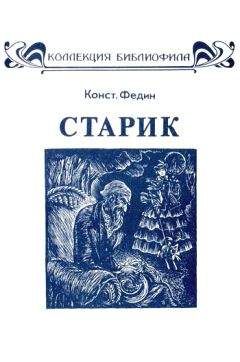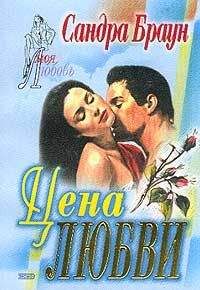Робер Андре - Взгляд египтянки
При этом он весь в поту. Он натягивает одеяло, выпивает глоток воды, у которой, кажется, сегодня несвежий вкус, глядит опять на часы, на тюбики со снотворным и на круглую коробку с розовыми пилюлями; снаружи слышен привычный плеск, а со стороны коридора доносится дыхание, размеренное, глубокое, в четком ритме и с легким присвистом, — настоящий и крепкий сон, такой желанный и такой опасный!
Темная комната понемногу обретает враждебность. Он ждет. Смутная боль гнездится в левом плече, и внезапно, в тот миг, когда ему мнится, что он снова погружается в сон, его опять охватывает разочарование, которое он ощутил, когда глядел на часы, — разочарование, даже отчаяние, невыносимое до тошноты. Нет, он не хочет, не хочет… Чего он не хочет? Он ищет слово, не может найти, и тогда тошнота превращается в ужас. Вороны и рытвины — они в этой комнате, и окоченевшая Полярная звезда сверкает жестоким блеском, а он идет по краю рва, где затаились когти, готовые вцепиться в него и потащить на дно.
Когда Commendatore приходит в себя, он сидит на кровати, меж ребер громко стучит барабан, ощущение холода стало еще острее, по спине и груди струится по-прежнему пот. Позвать? Он вслушивается в отдаленное дыхание и понимает, что звать не станет. Дыхание, его дурацкая размеренность, эта налаженность отлично действующей здоровой машины порождают в нем только гнев, яростный гнев.
«Ночь безумна, эта ночь безумна», — повторяет он вполголоса, тут же удивляясь, что ему удается говорить, но странное дело, фраза, которую он произносит еще раз, чтобы услышать звук своего голоса, действует на него благотворно, она будто вносит порядок в ту сумятицу импульсов, образов и недомогания, которая только что терзала его. Он встает, чувствует легкое головокружение, но оно проходит, как только он открывает окно. К счастью, движение сфер привело бодрствующее ночное светило к самому дому, и его милосердный свет широко льется в комнату вместе с запахами воды и кипарисов, чьи ветви нежно перебирает теплый ветерок. Веяние другого мира…
Успокоившись, Commendatore проходит на террасу, видит мертвенно-бледный сад, и изъеденный проказой бархатистый диск, который дрожит в бассейне, и в просвете между деревьями лодку и перевозчика. И возможно, как раз в эту минуту перед ним с предельной ясностью предстает то, чего он желал на протяжении многих дней и многих ночей, сходных с этой ночью, отчетливо предстает диковинное желание, на которое мы уже намекали, связанное, несомненно, с растущими гуморальными нарушениями, но также и с растущей неуверенностью по отношению к реальному миру, — сумасбродная тяга к самопроверке! Старый демон, который всегда поддерживал его, говорит с ним в эту ночь дыханием трепетной лагуны, дыханием всего этого белого мира, который есть лишь изнанка погруженной во мрак комнаты и затопленных подземелий, населенных горестными кошмарами, с ним говорит другой мир, который очень похож на мир силков и ловушек по причине неверности своих границ и своего жидкого естества, чья зыбкость еще больше подчеркнута мерцанием светила, изливающего на землю и воду спокойный призыв к забвению.
Именно это, я думаю, ощущает сейчас Commendatore, и демон, пользуясь его слабостью и некоторой затуманенностью сознания, рисует ему все отчетливо и в деталях— испытание не во сне, а наяву, которое влечет его пойти по ночной дороге, чья безмятежная таинственность вызывает в памяти образы иного мира, столько раз виденного во сне, но при этом избавлена от мучительных призраков и искушений, — испытание это словно бы лишено всякой опасности. Старое, иссохшее тело трепещет в магическом порыве.
Commendatore возвращается в комнату, прислушивается на пороге коридора, тихо одевается, глотает одну розовую пилюлю, кладет коробочку с оставшимися в карман. И вот он уже шагает по саду, уже подходит к мосткам, стараясь, чтобы гравий не скрипел у него под ногами. Безумное решение, которое он твердо принял, и предосторожности, достойные школяра, наполняют его восторгом; ему даже кажется, что в голове у него прояснилось. Липкие, засасывающие глубины исчезли. И как прежде, как всегда, когда он погружался в свою стихию и совершал поступки, он чувствует, что его озаряет и ведет за собой ясное, четко очерченное пламя!
Перевозчик, дремавший в лодке, довольно сносно говорит по-французски и без особых затруднений понимает его просьбу. Во всяком случае, она нисколько не удивляет его. А ведь просьба плохо вяжется и с этой фигурой, внушительной и одновременно хрупкой, молча занявшей место на корме, и с темным просторным пальто, в которое она кутается, несмотря на жару, и с лицом, которое в свете луны кажется лицом прокаженного…
А ночь поистине прекрасна! Дали, мягко оживляемые неясным колыханием сигнальных огней, мерцающие гирлянды буйков на рыбацких сетях и бакенов у молов; на берегу — Джудекка и огромный коралл Санта-Мариа-дел-ла Салюте; гондолы, в которых звучат серенады; слышатся далекие голоса и смех; с приближением к молу начинает казаться, что ты причаливаешь к грандиозному празднеству, о котором здесь говорит всё — и обе колонны Пьяццетты, и Дворец дожей, по ступеням которой; так трудно бывает взбираться, но эти колонны и весь роскошный фасад сейчас залиты светом прожекторов, там же как стоящая чуть дальше Кампанилла; да, это в самом деле другой мир, из которого изгнано зловредное колдовство солнца. Сам вид набережной, где толпа теперь не так густа, как днем, и этот струящийся с неба свет, утративший синюю мертвенность, чтобы стать розовым и голубоватым, этот ртутный дождь на лепнине и куполах, отражающихся в непрозрачной воде, где они колышутся и дробятся в завихрениях и потоках, — все так неожидан но, так ново, так величественно, что на сей раз Commendatore не может остаться безучастным. Понадобилась вся ночь, чтобы он открыл наконец город, которого он m знал и которым пренебрегал во время дневных прогулок с Анриеттой, и вместо того чтобы образумиться, он лишний раз порадовался своему побегу.
Однако у него нет времени как-то согласовать это открытие со своими странными планами. Мотор уже выключен, и лодка движется по инерции, приближаясь к гондоле, в которой стоит человек, чьим заботам с видимым отвращением собирается его препоручить перевозчик, — стоит жирный гермафродит с искусственным глазом.
Commendatore ощущает толчок, и чудодейственное возбуждение, которое поддерживало его, внезапно улетучивается. Опять поднимает голову усталость, напоминая ему, что при всех снотворных и успокаивающих она по-прежнему настороже. Ему хочется проглотить еще одну пилюлю, но в лодке это сделать трудно, а выйти на берег он боится. Старик перевозчик вступает в спор с гондольером, и хотя Commendatore не знает языка, он все же понимает, что его передадут попечениям эфеба и что спор идет о стоимости поездки; тот упорно торгуется, театрально жестикулирует и по-прокурорски завывает.
Но как прекрасен дворец со своей вереницею статуй! Как прекрасен остров, который они недавно покинули, и его церковь, похожая на большую перламутровую раковину! Как восхитительна пылающая линия дворцов вдоль Большого Канала, на которые он ни разу не бросил и взгляда! Его охватывает сожаление, но жалеть поздно. Он это знает, инстинкт старого прожигателя жизни уже в первую встречу, после домогательств смешного фотографа, подсказал ему, какого рода делами промышляет нахальный подросток. У парня теперь мертвенно-бледное лицо. Нужно ему довериться. Это в порядке вещей.
Традиционный торг вдруг представляется Рени неуместным. Он властно прерывает его, вызывая поток благодарностей и благословений, перебирается в гондолу и решительно усаживается на подушки; правда, он несколько смущен явной растерянностью старика перевозчика, который наклоняется к нему и шепчет дружеские советы; в них можно уловить слова «вор» и «ждать». Черт побери! Он прекрасно знает, что его обкрадывают, но ему на это наплевать! И его уже ничуть не заботит, что гондола уходит все дальше от ярких огней и погружается в сумрачный лабиринт, во власть которого он отдан желанием. Желанием? Честно говоря, он не мог бы сейчас объяснить, какой смысл вкладывает он в это слово. Свое испытание он обрядил в маскарад проверки собственной мужественности, но старый демон избирает причудливые дороги, и нелегко бывает понять, чего он в самом деле хочет. Демон долго закрывал ему доступ на дно, парализовал его мысли, путал ложными воспоминаниями. Сегодня он приподнял плиту — и явь смешалась со сном… Не в зыбучих ли топях того, что прежде звалось сновидением, выковал демон свой план? И, поманив утолением нехитрого желания (такого простого и ясного, исполненного такой физиологической благодати) и двусмысленными декорациями ночного моря, озаренного бледной луной, заставил наконец пуститься в это плавание к преисподней?
Рени вздыхает, устраивается поудобней на подушках, и гондола беззвучно скользит в мире, который становится все более беззвучным, тесным и сумрачным. Мерцающий свет фонаря на носу освещает плывущие навстречу контуры мостков и парапетов, поросшие мхом, и изборожденные трещинами пролеты мостов, щербатые камни высоких глухих стен, решетки, обитые гвоздями двери с молотком, подворотни с лампами, подвешенными на железных столбах. Влажность возрастает, кожа становится мокрой, шест гондольера поднимает из глубины запах тины, прорезаемый то миазмами гниения, то ароматами кухни. Справа и слева мгновенным видением возникает вход в канал — узкая черная траншея, в которой посверкивают неясные отблески; порою мелькнет желтый огонек дальней лодки, где-то в бесконечности — мосты и арки, иногда крохотная площадь и кафе с пустынной террасой, прилепившейся тут к изголовью церквушки, там к неведомому дворцу, еще дальше, в мареве, — к кривым деревянным домишкам с резными украшениями на восточный манер, где плещется на ветру вывешенное для просушки белье; слабый неверный свет, которым залиты эти плавающие по грязи островки, совершенно безмолвные или овеянные журчаньем фонтана, кажется все более удивительным по мере того, как длится поездка и переходы во мраке становятся продолжительнее и сложнее. У путешественника кружится голова, он закрывает глаза или пытается не отрывать взгляда от светлой полоски на небе, где мерцает несколько звезд.