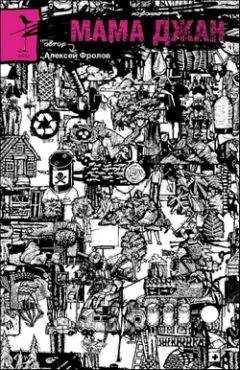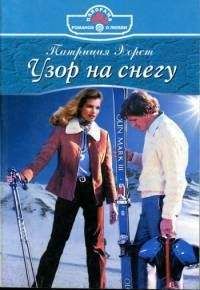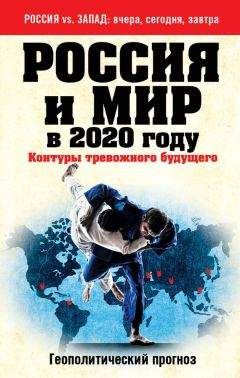Урс Видмер - Рай забвения
Потом была ночь, в которую я все-таки спал, потому что утром мать исчезла. Мне никто не сказал, куда и почему. Лены тоже не было — наверное, ее в последний момент забросили на телегу, отъезжавшую при свете луны. Колеса обернули тряпками, чтобы не разбудить меня, и говорили только шепотом. Мать сидела с прямой спиной, без камня, который мог бы послужить ей защитой. Дом теперь почему-то казался пустым, огромным. Отец онемел, разве только лаял иногда вместе со своими собаками. Часами неподвижно стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу и все-таки не видя стекающего по нему дождя; я, само собой, утешал его и кормил собак. Однако они все равно благодарили только его. Я много смеялся и прыгал. Моя жизнь по-прежнему была полна радостей.
Однажды отец усадил меня за собой на велосипед и мы доехали, упав по пути несколько раз, до какого-то большого дома, в саду которого сидело привидение, похожее на мою мать, среди других женщин, тоже с мертвыми глазами. Привидение проплыло вниз по лужайке к нам и коснулось моей головы, но я ничего не почувствовал. Рука была точно из воздуха, или это я сам был из воздуха, или нас обоих не существовало? Отец рассказывал ей о собаках. Я, возбужденно крича, расписывал, как весело мы живем, пока отец не попросил меня говорить потише. Потом мы поехали обратно домой, падая еще чаще, так что руки и колени у нас все были в крови, и снова забыли поесть.
Лена тоже опять была здесь. Ее отсылали к тетке, которая жила теперь в доме на одной тенистой площади в городе и была невероятно счастлива со своим новым мужем. По утрам, когда я вставал. Лена всякий раз поспевала скорее меня и уже лежала в постели отца, объедаясь хлебом с вареньем, пока тот выглаживал щеткой очередного щенка. Завтракать я все равно не любил, так что просто тихонько закрывал дверь.
По какой-то причине между отцом и дядей разыгралась настоящая война. Они стояли на своих балконах, переругиваясь, отец — вывернув шею и глядя наверх, дядя — перегнувшись через перила и чуть не вываливаясь. „Ты — дерьмо!“ — кричал отец, а дядя отвечал, что не желает больше делить стол и кров с коммунистом.
Когда отец злился, а теперь с ним это бывало часто, он краснел все сильнее, и пот тек с него ручьями. Забыв даже о своих собаках, он разражался резкими монологами, расхаживая по нашей пустой квартире. Иногда, схватив своего любимца или меня за глотку, так что мы не могли вырваться, он орал, не помня себя, что это старая свинья, извращенец; „это“, естественно, был дядя. Это он спятил, а вовсе не мы все, и если бы не его важный пост и закадычная дружба с министром юстиции, который еще в начале войны успел нюхнуть этой коричневой мрази, то сидел бы он сейчас за решеткой или в сумасшедшем доме, этот Герман, который на самом деле ни барин, ни мужик[10]. После всего этого несчастный песик, тот самый полукровка, был до смерти рад, когда его наконец отпускали поиграть со мной, и мы носились по полям, пока не падали с ног от безудержного лая и смеха.
Вот так мы лежали на том самом поле, где я когда-то нашел плащик, — только в этот раз нигде ничего не горело, — когда все на той же тропинке, однако теперь со стороны дома, опять появился человек, тоже бежавший и тоже в панике. Приблизившись, он превратился в дядю, но у него было такое лицо, что я едва узнал его. Оно было полно страха. Не заметив нас — мы пригнулись за колосьями, — он завернул за дачный сарай и помчался к лесу. Он еще не успел до него добраться, когда на вершине холма, отчетливо вырисовываясь на фоне синего неба, появилась крохотная собака — одна из наших, потому что следом за ней тотчас же появилась вторая, десятая, а затем и пятидесятая, и посреди этой возбужденной стаи бежал отец, тоже сам не свой, какой-то дикий и злобный. Он тоже быстро приближался, понуждаемый своими питомцами держать такой темп, что у дяди не оставалось никаких шансов. В руке у отца был револьвер. Молча, с открытыми ртами, мы приподнялись в своих колосьях, собака и я, и, вытянув правую руку, я указал отцу, куда побежал дядя Герман. Не знаю, заметил он меня или нет, но, во всяком случае, вся свора завернула к лесу. Я никогда не видал отца таким: он шел убивать. Теперь я разглядел и Лену: она бежала вместе с последними собаками, время от времени падая на четвереньки, и снова поднимаясь, и снова падая. В какой-то миг мне подумалось, что отец так долго выращивал эту свору лишь для того, чтобы однажды она растерзала дядю. Вот уже лес, где едва минуту назад скрылся дядя, поглотил и лаявших животных. Если дядя искал спасения за колючей проволокой, то добраться до нее он ни за что не успел бы.
Все стихло. Воздух был так недвижим, что какой-то жучок у моих ног, подгрызавший соломинку, производил такой шум, что мы нагнулись посмотреть на него. Его обнюхивала собака, шевелил палочкой я, а он знай жевал себе свой стебелек, на котором гнездилось столько тли, что я так и не понял, что же его на самом деле так привлекло, тля или хворостинка. Когда я опять поднял голову — меня насторожил звук, как будто где-то вдалеке сломали деревяшку, — наши собаки вдруг вырвались вон из леса, и отец с ними, они мчались назад, мне навстречу, теперь сами в панике, потому что в подлеске почти тотчас же появился дядя с ружьем в руке и двумя здоровенными доберманами на длинных поводках. Откуда он взял их? Алкая крови моих родных, они догоняли их; отец и его собачки молча спасали свою жизнь. Они лишь тяжело дышали. Лена опять была последней, то есть первой, кого они разорвут на части. Они взобрались на кручу так стремительно, что ни я, ни мой дружок не успели даже пошевелиться. Карабкаясь изо всех сил, Лена наконец тоже скрылась за взгорком. „Подождите!“ — закричал было я, и пес мой тоже залаял. Однако дядя был уже тут, у поворота, и увидел меня, и я с готовностью показал рукой на взгорок, куда и бросились все трое преследователей.
Когда мир вновь опустел, тишины в нем на этот раз не настало; вместо этого из-за взгорка почти сразу донеслись визг и вой, издавать которые могли лишь наши маленькие собачки, да редкий низкий лай доберманов. Раздалось несколько громких выстрелов, должно быть из ружья, и еще несколько потише, из отцовского револьвера. Длилось это смертоубийство целую вечность. Однако наши собачьи голоса звучали все реже, пока наконец не раздался последний, полный неописуемой паники. Однажды я видел снимок обезьяны, пойманной леопардом; обернувшись к своему убийце, она глядела на него, в ужасе раскрыв рот. Так и наш песик, наверное, обернулся в последний миг к убивавшей его псине. А как же Лена? Хлопнул еще один выстрел, то ли из ружья, то ли из револьвера, и все стихло; стало еще тише, чем до катастрофы, ибо теперь умолк и жучок.
Мой пес и я бросились по тропинке в поле. Когда перед нами появилась станция, мы уже настолько пришли в себя, что я снова забрасывал в поле палки, а пес приносил их мне. Ярко-красное солнце опускалось за горизонт впереди нас. Я задумал вместе с псом вскочить на заднюю площадку какого-нибудь отходящего поезда. Мы бы легли на пол и проехали так всю дорогу — для собаки это дело нехитрое, — и никакой кондуктор нас бы не обнаружил. Но на улице перед станцией мой дружок вдруг залился восторженным лаем при виде двух собак, неторопливо обнюхивавших афишную тумбу, — кобелька с шерстью, как проволока, и его подружки, еще меньше ростом, — и вот уже вся троица сбилась в клубок, радуясь встрече после долгой разлуки; они скакали, вопили, смеялись и наконец удалились по широкой аллее, те по бокам, а мой дружок посередине.
Потом я увидел их еще раз, проезжая мимо на поезде и в нарушение всех правил высунув голову из окна. Казалось, что мой приятель им что-то взволнованно рассказывает, а седеющий отец слушает, рассеянно обнюхивая очередное дерево. Мать сидит тут же, двигая ушами. Поезд какое-то время шел навстречу солнцу, окрашивавшему деревянные сиденья в ярко-красный цвет. Однако потом он изменил направление и, со мной на задней площадке, стал удаляться, делаясь все меньше и меньше, по направлению к городу, мерцавшему огоньками на горизонте».
Моих ноздрей коснулся терпкий запах. Соседка, менеджер по рекламе, стояла у себя в саду с граблями в руках: она жгла высохшую траву вдоль стенок канавы. Она помахала мне рукой, и тогда я решился встать и подойти к изгороди. На ней и в этот раз были шорты и майка яркой расцветки, однако на голове был платок, а на ногах — резиновые сапоги. Так она казалась еще более симпатичной. Слегка разбежавшись, я сильным броском отправил рукопись прямо в огонь. В воздухе она распалась, и страницы, точно голодные чайки, разлетелись по всему участку. Некоторые, черпнув огня, тут же взлетали снова и, пылая, пролетали еще несколько метров, чтобы уже черными упасть на землю и умереть. Другим помогала граблями соседка.
— Вы уж извините! — прокричал я.
— Forget it[11], — донеслось в ответ.
Я вернулся домой и закрыл окна. Бросив взгляд наружу, я увидел, что соседка держит в руке измятый листок и внимательно читает. Она медленно стянула с волос платок, и волосы рассыпались, прикрывая ей плечи.