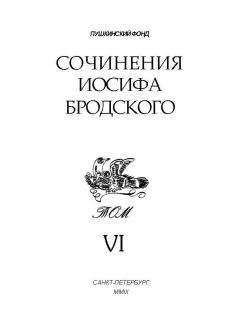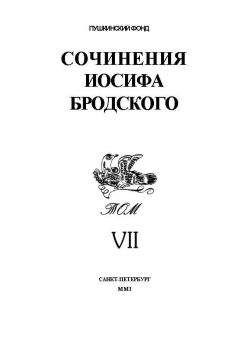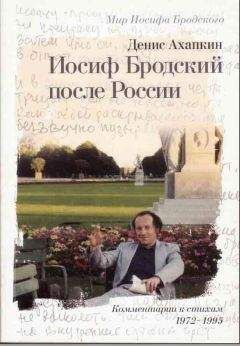Сергей Смирнов - Ангелы приходят и уходят
— Играешь ты со мной, — вздохнул Ковалев. — А я ведь не мышка.
— И я не кошка, — сказала она и взяла его под руку.
— А зачем же тогда обманываешь?
— Да не обманываю я. Просто объяснять пока не хочу. Я ведь тоже боюсь, понимаешь?
У него закружилась голова, и вот теперь-то он уже точно ничего не понимал.
— Я так боялся тебя потерять. Так боялся. А ты…
— Знаешь что? Вот когда стану твоей женой — тогда и будешь просить и проверять, где я и почему.
— Не станешь, — скорбно сказал Ковалев.
— Почему? — Она даже остановилась.
— Потому. Не станешь — и все.
— Вот дурачок. Ты посмотри на меня, ну? Я хозяйка хорошая, все умею. А когда накрашусь, так мужики балдеют и падают.
Ковалев опустил глаза.
— Смеешься ты надо мной. Нехорошо это.
Они шли и шли. И шли в сторону, противоположную от университета. «Да и черт с ним, с Ярошевичем. Злобный он и мстительный. Тоже мне, знаток Пушкина!.. Сдам как-нибудь… Вывернусь… Всего Пушкина наизусть выучу», — подумал Ковалев. Вид у него был обалделый, и мысли, конечно, тоже.
Они шли и шли, пока не оказались на привокзальной площади.
— Ну и куда мы пришли? — спросил Ковалев.
— На вокзал, конечно.
— Зачем?
— А я уеду сейчас.
— Куда? — испугался Ковалев.
Она засмеялась:
— Вот глупый! К подруге, она в Белореченске живет. Час езды на автобусе…
Они пришли на автовокзал, купили билет, вышли на посадочную площадку.
— Вон и автобус уже стоит, — сказала она. — Ну, до встречи.
— Когда?
Она опять засмеялась:
— Когда хочешь.
Подошли к автобусу:
— Ну, а сейчас-то ты зачем меня обманула?
— Я не обманула. Насчет встречи? Нет, не обманула. Правда, когда хочешь.
— Ладно. Допустим, я хочу сейчас.
Она немного подумала:
— Знаешь… Прямо сейчас не получится. Следующий автобус — через четыре часа. Вот ты на него сядешь и приедешь в Белореченск. Выйдешь на автостанции, пройдешь лесом до пятиэтажки — она там всего одна на весь поселок, не заблудишься. Квартира сорок шесть. Запомнил?
И она поцеловала его мягкими теплыми губами, вошла в автобус и махнула ему рукой из окна.
Он закрыл глаза, постоял с минуту. Открыл — и оказался вдруг в другом мире. Солнце выглянуло, и все вокруг было залито теплым лучистым светом, и все светилось и радовалось теплу. Даже собака, бежавшая через площадь, — и та, казалось, сияла от счастья.
Он вернулся в здание автовокзала, купил билет на следующий рейс: все было точно, автобус отъезжал через четыре с небольшим часа.
Первое, что он сделал дома — залез в ванну и вволю понежился. Потом объявил матери, что едет в деревню к другу, возможно, с ночевкой.
— Ну, к другу — так к другу, — равнодушно сказала мать. — Завтра когда придешь?
— После занятий. Часов в пять.
* * *Все было хорошо в этот вечер. Слишком хорошо. Так не бывает. Или редко бывает. Но все же бывает…
Наступили сумерки, вспыхнули за окном веселые фонари. Ковалев слушал магнитофон, подгоняя время, потом подумал, что надо бы погладить брюки и рубашку, и оказалось, что времени остается совсем мало, и надо спешить.
Бегом прибежал на автовокзал. Автобус выехал по расписанию, в салоне было почти пусто — всего шесть или семь пассажиров. Выехали из города и помчались по шоссе мимо белых полей и дымчатых перелесков, мимо черных изб и покосившихся заборов. Ковалев смотрел во тьму. Он впервые оказался за городом на ночь глядя, и все казалось ему необычным, интересным. Вскоре пассажиры стали выходить на остановках, и с Ковалевым в салоне остался один только старик с рюкзаком и в телогрейке.
Потом он задремал, а очнулся, когда переезжали реку, на пароме. Мел снег, исчезая бесследно в черной воде. У дальнего берега в холодных волнах плясали огоньки. Водитель вышел из автобуса, курил, облокотившись о перила парома, сплевывал в густую воду.
Когда приехали в Белореченск, было уже совсем темно. Ковалев увидел маленькую площадь, слабо освещенную двумя фонарями с железными рефлекторами. Черные домишки, заборы — и тишина, нарушаемая только простуженным лаем собак.
Автобус развернулся и уехал, Ковалев огляделся, и пошел по дороге в ту сторону, где, как он предполагал, должна стоять невидимая отсюда пятиэтажка.
Дома и заборы кончились и Ковалев вступил в темный, глухо шумевший поверху бор. Дорогу было еле видно, он то и дело спотыкался, но вот впереди показался огонек: кто-то шел с фонариком ему навстречу. Луч света скользнул по лицу Ковалева и упал в снег.
— Скажите, я правильно иду — к пятиэтажке? — спросил Ковалев.
— А? — отозвался мужской голос. — Ну да. К ней.
Помолчал и спросил:
— А кого там надо-то?
— Не знаю. В гости позвали…
— А-а… — Мужчина помахал фонарем, пожал плечами и пошел своей дорогой.
Через сотню-другую метров лес стал редеть и вот уже всеми окнами засияла впереди пятиэтажка. Над подъездами горели фонари, на скамейках заседали бабушки, мальчишки играли в снегу. Ковалев подошел к бабушкам, поздоровался, спросил, в каком подъезде сорок шестая квартира.
Подъезд был невероятно грязен, здесь пахло кошками и мочой, и стены, и двери были исписаны людьми, которые, кажется, знали всего три буквы русского алфавита.
Сорок шестая была на пятом этаже. Ковалев постоял, стараясь поскорее отдышаться, постучал.
Дверь открылась. В дверях стояла Ирка, но Ковалев не сразу узнал ее: это была незнакомая прекрасная женщина.
— Привет, — сказала она, — проходи.
Он вошел в полутемную прихожую, стал снимать пальто, а она не уходила, стояла и улыбалась незнакомой улыбкой.
В комнате светила настольная лампа с зеленым абажуром, негромко играла музыка.
— Ты одна? — спросил Ковалев. — Ждешь кого-то?
— Тебя я ждала, глупый, — ответила она. — Подруга на дежурстве в доме-интернате. Интернат здесь для престарелых и инвалидов, рядом, в окно видать.
Ковалев сел за стол, слушал ее вполуха и ничего не соображал. Она говорила про дом-интернат, про инвалидов, про подругу, про ее мужа. Ковалев кивал. «Музыка красивая… — думал он. — Донна Саммер, Father Dear».
А потом свет погас и стало тихо.
— Электричество отключили, — сказала Ирка. — Здесь такое часто бывает.
В темноте Ковалев взял со стола рюмку, они чокнулись и выпили. У него закружилась голова, но не от выпитого: вдруг оказалось, что она совсем рядом, и он обнимает и целует ее, целует губы, щеки, глаза.
Вспыхнул свет — и сейчас же погас: это она дотянулась до выключателя.
А музыка осталась. Они танцевали в темноте, а потом он подхватил ее на руки и стал кружить по комнате, и кружил, пока не опрокинул стул, и она сказала:
— Уронишь ведь, Алеша Попович!
А потом сказала:
— Я, кажется, забыла дверь запереть.
А потом, в спальне — слабо светящийся квадрат окна, белая простыня, белое тело.
Ирка прошептала:
— Вот глупый-то…
А он ответил:
— Сам знаю.
Но ничего он не знал, потому что такого еще не было, а то, что было — было совсем не так. Он вскочил с кровати, встал на руки и хотел пробежать по полу, но упал и хохотал лежа.
А потом снова было тихо. Тише, чем сначала. Тихо на всей земле, даже бор не шумел, даже мальчишки за окном кричать перестали, даже музыка смолкла.
Он целовал ее, гладил, а потом уткнулся ей в плечо и загрустил. «Будто сон, — думал он. — Кончится — и проснемся чужими». Потом он подумал про нее: несчастная, зачем она его заманивала, он же и так на все был готов, зачем она играла? Несчастная и глупая… А может быть, она и сейчас обманывает его? И ему стало еще печальнее и вспомнился обрывок какого-то стихотворения, нацарапанного на студенческой парте среди анекдотов, признаний в любви, и рисунков обнаженных женских фигур:
…Так плохо нам, господи, плохо.
Веди же, веди нас туда,
Где нет ни печали, ни вздоха.
Где мы не умрем никогда.
Эти строки никак не выходили из головы, он проговорил их вслух, а потом повторял и повторял про себя, и думал: радость приходит и уходит, а печаль остается с нами. Время уже истекает, еще чуть-чуть — и закончится срок, отпущенный радости, а дальше — только печаль. Потому-то радость так долго и помнится.
Он поцеловал ее так, что сделал больно, а она сказала:
— Вот этого я не люблю.
— Ты не этого — ты меня не любишь, — вздохнул он.
Поднялся, взял сигарету, приоткрыл форточку. С улицы послышался дребезжащий, какой-то вихляющийся голос:
— Все могут кар-рали! Все могут кар-рали! И судьбы всей земли вершат они порой!.. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король!..
Ковалев посмотрел вниз. По асфальтовой дорожке вдоль полутемного корпуса дома-интерната на коляске катился инвалид. Колеса жидко поскрипывали, инвалид подгонял их руками. Разогнался, скрылся из глаз. Стихло пение. Через минуту — снова: скрип-скрип, скрип-скрип. Инвалид взбирался на некрутую горку, взбирался молча — запыхался. Развернул коляску наверху, — и вниз: