Альфред Коллерич - Убийцы персиков: Сейсмографический роман
Когда Цэлингзар еще верил в способность родословного древа нести истину, причем многозначную, он доказал венгерское происхождение Бубу. Его удивило тогда, что этот тезис подтвердил также врач и специалист по части имен Габриэль Абт, опираясь в своих доказательствах на глубинную память Бубу. Габриэль Абт сыграл на скрипке «Печальное воскресенье» 4 и тем самым добился того, что требовалось доказать: Бубу был так захвачен венгерской мелодией, что бросился к Цэлингзару с намерением оседлать его и пустить вскачь, в то время как тот соотносил музыку со своими размышлениями о Франце Листе.
— Ой-ой-ой! — заголосил Бубу, он подскочил к первому философу и повис у него на спине. Первый философ пронес его вокруг стола и сбросил. Бубу начал плясать под музыку, которую изображал голосом, прихлопами и притопами. Вскоре все пустились в пляс под его дудку.
Внезапно распахнулась дверь. На пороге стоял Ураниос в разорванной рубашке, волосы всклокочены, он кричал, извещая всех о том, что вновь взялся за кисть, он знает, он чувствует, что снова способен писать. Радость клокотала в нем, он призвал Цэлингзара препроводить всех в комнату, где он рисует.
Все потянулись за Цэлингзаром, углубляясь в коридоры замка, и всех охватил испуг за порогом комнаты, где полуголый Рудольф Хуна стоял перед своим портретом, который в общих чертах набросал Ураниос. Художник с мокрым от пота лицом указал Рудольфу на шезлонг.
— Мне больше не нужна натура, — сказал он. — Организованное тело, которое я взял напрокат, теперь живет на моем холсте. Я дошел до самых корней сущего, хотя несколько часов назад утверждал обратное.
Перед мольбертом были разбросаны листочки, на которых Ураниос записывал свои мысли во время работы. Он поднимал записки и читал их вслух. Рудольф Хуна перебивал его своим смехом. Он натянул на себя желтую рубашку и, стоя перед портретом, смеялся все громче. Его смех был слышен, даже когда он вышел из комнаты, возвращаясь в залу.
— Этот торс и есть душа, — в порыве продолжал Ураниос, — он бьет по моим нервам, как пронзительный смех. На моем полотне — никаких судорожных ужимок, оно объемлет все, это — памятник жизни. Свет взрывается вспышками цвета. Отчаяние, которое я сдерживал десятилетиями, выплеснулось наружу. Я ничего не буду здесь менять. Этой картиной заканчивается стена с изображенным мною процессом развития.
Бубу, уперев подбородок в грудь и потирая кончик носа, заявил умолкнувшему Ураниосу, что его речь никуда не годится, почти все надо переписать, нужны другие слова. Затем он вскочил на спину Ураниосу и велел отнести себя в столовую. Там сидел Рудольф Хуна и орал, ошарашивая входящих вестью о том, что для рождественского ужина все готово.
По его разумению, все организмы так или иначе утомлены танцами, разговорами, речами, пищеварением и тем жаром, с которым от зари до зари все втолковывают друг другу свои доказательства реальности и утверждают добротность какой-либо классификации.
Бубу сполз со спины Ураниоса. Гости принялись уписывать разносолы и освежающие паштеты. На господском и княжеском столе, согласно церемониалу, дымился черный кофе.
За окнами забрезжил рассвет. Свечи потушили. Ураниос сел за стоявший у стены столик в стиле ампир и уставился в зеркало на стене.
Цэлингзар, встав за кафедру, приветствовал наступающее утро. В окна врывались крики диких уток. Он воздал хвалу пище, к которой даже не притронулся. Потом он почтил:
— Философов, хозяев, друзей философов и слуг, кухонных работниц и главную повариху, ваятелей, живописцев, кучеров, хористов и егерей, а, стало быть, замок и лестницы замка, кареты и флюгеры, персиковые деревья и каретные сараи, орган и пивоварню, а это значит — образы философов, и образы господ, и образы друзей философов, и образы слуг, и образы молоденьких кухарок, и образ поварихи, и образы ваятелей, и образы живописцев, и образы кучеров, хористов и егерей. Эти образы выходят из моих глаз, и я зажимаю глаза пальцами.
Ураниос видит образ своего образа, и это — образ самой жизни, который следует первообразу. Ураниос сидит перед зеркалом и смотрит в него глазами ребенка. Эти глаза мечтают еще раз погрузиться в ночь с темнеющим за окном храмом Пресвятой Девы.
Князь видит глазное яблоко своего каплуна. Это — образ круга, которому он причастен и каким для него является замок, счастье Цёлестина и сила раскаленных плит, способная извлекать благо из темного и скоротечного. Дурной же круг, не согласуемый с чистой округлостью, есть вырождение, подобное участи захудалых господ, ставших слугами.
Первый из философов образует свой круг, радея о его чистоте с каждым «первым шагом». Это — образ круга, созидающего себя вновь и вновь, ибо он — орбита философа.
Супруги Бубу пытаются показать анархию круга, вихрь образов, всемирный снегопад. В пляске Бубу проступает образ утопии, буйная стопа разбивает стекло, сквозь которое созерцают ландшафт, но вытянутые руки уже несут груз альтернатив, подобно новой вязанке дров. Никто не заставит огонь погаснуть.
Князь живет и каждым жестом, каждым деянием как бы обозначает круговую пирамиду, в чем убеждают твердые шаги под сенью парка, подобострастное шуршание гравия, власть над механизмами часов, уверенность в том, что все имеет свое имя. Фриц Целле, напротив, вовсе не видит «каплуна», «лошадь», «женщину», он видит их образы и еще — собственную голову между собой и миром. В этой голове он открывает другие головы, вмещающие все головы на свете и образы этих голов.
Жизнь не дано понять тому, кто хочет ее понять. Ничто не должно иметь имени. Имена — первобытные дебри, из которых не доходит ни одной вести, образы — тоже имена, только немые, а потому более опасные. Вопрос «Что?» — притязание на господство. Тот, кто задает его, хочет быть господином и, утверждая «сущность», стремится поднять цену сущему так, что оно будет даже выше самого господина, словно незакатное солнце. И господин будет властвовать, повинуясь, и глаза узреют некий порядок, который был, или есть, или грядет.
Ураниос отставил тарелку с солениями и придвинул кресло к кафедре. Прочие гости сели на свои места. Цэлингзар раскрыл поваренную книгу Марии Ноймайстер и сказал, что подобные книги могут научить тому, чего все присутствующие напрасно ищут. Он продолжал:
— Кулинарное искусство — узник времени. У его созданий самый короткий век. Хотя оно отделяет съедобное от несъедобного, облагораживает отборное и творит из него то, что во все времена признается вкусным и благопригоднейшим, оно служит своей цели, уничтожая ее. Кулинарное искусство живет совершенствованием и как только даст совершеннейший плод, он исчезает как шедевр вкуса, в котором осуществляется самый глубокий контакт с миром, раскусывание сути вещей. Вот все вы с избытком насытились, паштет из гусиной печени произвел на вас длительное и стойкое впечатление. Вы получили то, что хотели доказать, то есть добились непосредственного контакта. Вы углубили его единственно возможной формой безобманного самообогащения, призвав на помощь осязательную силу полости рта, обнажив все фибры обоняния. Но послевкусие, хранимое вами, можно сказать, соблазняет вас как можно дольше помедлить со следующим куском, будто вы уже чего-то достигли. Это проходит после каждого нового куска и поглощения всех его соков. Что же касается осмысляемого ощущения, глубокого вчувствования в пищу, этого реального процесса, поднятого до высоты познания, едоведения, то это обогащенное мыслью ощущение свидетельствует о том, что непосредственно чувствуемое сменяется чем-то иным, что желание, диктуемое телом, переходит в жажду знания, которая порождает философию и искусство. Размышление о насыщении и голод породили науку и религию. И тут напрашивается естественное решение проблемы — это тотальный акт пищепоглощения, мудрость которого состоит в том, что сытому нет необходимости думать. А сыт лишь тот, кто достаточно мудр, чтобы есть всегда. Я, — сказал в заключение Цэлингзар, — почти ничего не ем, ибо заменил еду силой воображения. Я ем всегда...
Не успел он договорить, как Ураниос сорвался с места и выбежал из залы. Вернулся он со своей картиной, но уже разорванной в клочья, которые жадно запихивал себе в рот. Она безвозвратно переходила во власть пищеварительных соков и газов. Он крепко удерживал лоскутья зубами, чтобы ни один не выпал. Слюна размачивала куски холста, язык мял и перекатывал, зубы перегрызали волокна, глотательные мышцы проталкивали всю эту жвачку в пищевод, в то время как начавшаяся отрыжка всасывалась ноздрями. Так был отправлен в желудок портрет, живописный образ Рудольфа Хуны, так растаяло послевкусие природы. Ураниос имел вид счастливого каннибала.
«Во рту, — размышлял Цэлингзар, — кончается и возникает мир. То, чему не дано сойтись в природе, связывается здесь самыми тесными узами. Все, что пытаются соединить искомой связью, обретает здесь неразделимое единство. Все исходное прекращает свое существование во рту».

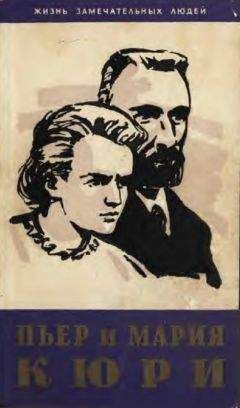
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма 7-8) [«Мария», Мария… + Ничего святого]](/uploads/posts/books/243664/243664.jpg)