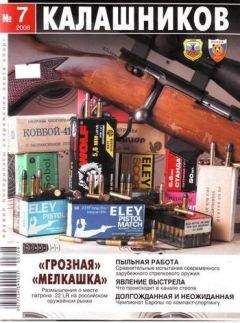Эрнест Брылль - Тетка
Впрочем, не все умели ждать. Батраки из имения, поселившиеся в недогоревших руинах бывшего барского дома, не могли спокойно смотреть, подобно крестьянам – из тех, кто имел хоть клочок собственного поля и запасался на случай будущей войны, – как осыпаются несобранные колосья.
Сперва косили по ночам.
– Ах, воры, и всегда были ворами, – говорила Тетка при виде торопливо выкошенного косяка в целине ржаного поля. – Что поделаешь, пусть крадут, пока что я вынуждена разрешить им это.
После каждого такого воровства регулярно вызывались представители местной власти. Они озабоченно осматривали вытоптанные в спешке участки ржи, скрупулезно подсчитывали убытки и в который уж раз призывали народ открыто взять себе усадебные земли.
После какого-то очередного их визита в деревне грянула весть, что оставшуюся рожь скосят и заберут в свои склады военные. Власти, мол, не могут допустить, чтоб хлеб безнаказанно погиб.
На следующий день на полях появились батраки. Стоя на взгорке, с которого открывалась побуревшая уже целина ржаного поля, я смотрел, как наспех налаженные старые телеги вязли в песке на дороге, ведущей к руинам усадьбы. Коровы, запряженные в эти широкие, решетчатые, тяжело груженные возы, упирались худыми ногами и, подгоняемые окриками, медленно, шаг за шагом, продвигались вперед. Наконец копыта их, вязнувшие в сыпучем песке, ощутили твердый грунт хорошо утрамбованной дороги, телеги пошли быстрее, людей и животных словно бы напугала нависшая над деревьями парка мрачная грозовая туча. Облако поднялось выше – и вот уже под ним блеснули первые языки пламени.
– Закон божеский позволяет брать эту землю. В этом я уверен. Но что я могу им посоветовать, – задумался, слушая мой рассказ о пожаре, ксендз Станиславский. – По деревне пошли слухи, будто сожжение усадебных руин, в которых жили батраки, это, мол, божья кара за грехи. Но я же не господь бог и не могу защитить их от пожара. Грех, такой грех, что даже священник тут беспомощен.
– Выходит, пусть ждут? – спросил я.
– Сам не знаю. – Он беспомощно развел руками. – Я с амвона буду опять все то же твердить. Но словами тут не поможешь. Нужно, чтобы все без исключения ззяли землю. Всей деревни «они», – он показал пальцем в сторону голубеющих вдали лесов, – спалить не смогут. Понимаешь, надо брать землю, и как можно скорее, пока ничего не изменилось. Чтобы они считали ее своей. Но я то и дело слышу, что это, мол, грех, кража.
– Ну да, а Тетка, само собой, не подтвердит законность этих государственных актов, – заметил я, чтобы как-то, пусть дурацкой шуткой, закончить этот разговор, и вдруг, словно пронзенные одной мыслью, мы с ксендзом одновременно взглянули в сторону Узкой дорожки, ведущей к Охотничьему Домику, порой уже называемому Новой Усадьбой.
VI
Теперь, вызванный Теткой для спасения этого домика, я мог наконец просмотреть запертые в сундук вместе со всеми бумагами, что остались после Молодого Помещика, юридически равные нулю, но ценимые здесь когда-то выше законных актов пожалования, – листочки, подписанные первым хозяином Бачева. Именно так, подчеркивая временность правления Тетки, стали величать тут ее брата уже недели через две после его возвращения с войны. Бывая в деревне, я обратил внимание, что молодого Бачевского уже не называют, как прежде, – «сержантик».
Еще далеко было до позднейших легенд о нем, когда низкое, по мнению деревни, воинское звание героя стали объяснять его скромностью, даже женитьбой, якобы не позволившей ему «отказаться от солдатских сапог и приладить звездочки к погонам»; еще дивились вокруг: «как же так, ведь Бачевские всегда в офицерах ходили», но никто уже не смел говорить о нем с презреньем.
Вечерами – обычно, когда в окнах Охотничьего Домика отражался багровый свет заходящего за болотами солнца, Молодой закрывал на ключик ящики своего стола и, медленно, неумело скрутив «козью ножку», шел в деревню – вечерами вокруг него собиралось теперь много народу; люди слушали, как он хрипловатым своим голосом рассказывал о войне, о том, что происходит в мире и «что будет дальше».
Видимо тогда, во время этих популярных бесед о ближайшем будущем Бачева, и было произнесено впервые слово о разделе земли. Не думаю, чтобы крестьяне ждали от Молодого Барина поддержки указа новых властей, как-никак лишающего его земли. Возможно, его даже пытались склонить к жалобам на тяжкую долю бывшего солдата, у которого отбирают его собственность. И если это предположение верно, Молодой сразу же должен был понять, сколь нелепым покажется всем этим искони жаждущим земли, голодным до нее крестьянам, его собственное, совпадающее с реформой решение.
Признайся он во всем откровенно, и люди перестали бы ему верить. Очевидно, поэтому доходившие до Тетки вести о вечерних сходках не вызывали у нее беспокойства. Ей и в голову не приходило, что именно там предрешен будет скорый конец усадьбы.
– Понимаешь, у Бачевских всегда была какая-нибудь слабость, – говорила она, наслаждаясь, по обыкновению, чаем в недавно переделанной под гостиную центральной комнате Домика.
– Опыт с твоей сестрой ничему его, как видно, не научил. По-прежнему готов броситься в огонь за кем попало.
Слова эти имели конкретный смысл. Из деревни передали, будто это Молодой Помещик руководил операцией по спасению батрацкого добра во время знаменитого, расцененного, как божья кара, пожара в руинах усадьбы. Деревенские рассказывали, – подробно, как всегда рассказывают о несчастье, – что прибежал он со стороны парка и при виде толпы голосящих женщин под окнами первого этажа, из которых клубами валил дым, схватил одну из них за плечо и, сунув ей в руки лоханку, валявшуюся во дворе, велел, не мешкая, заливать огонь водой. Приказ этот, произнесенный не терпящим возражения голосом, позволил организовать хотя бы слабое подобие борьбы с огнем. Пока с поля, что в двух километрах от усадьбы, прибежали мужчины, детей уже успели вывести в безопасное место, а женщины, только что вопившие о каре божьей, без устали заливали водой выбрасываемый из окон, еще не объятых огнем, убогий батрацкий скарб.
– Только подумай, мой милый, как люди меняются, – задумчиво говорила Тетка, перебирая в который уж раз подробности рассказа о деяниях брата. – В детстве он, бывало, брезговал прикоснуться даже к полотенцу, которым невзначай вытерла руки горничная или нянька. Считал их, видишь ли, кем-то вроде нечистых животных. Начитался тогда разных книжек и никак не мог взять в толк, как это я, его сестра, могу ходить в эти грязные халупы, лечить… Перед первым причастием, – сомнения его тогда одолели, как же увязать такое с проповедями ксендза о милосердии? – он выдумал себе теорию. Я сохранила его тетрадку с сочинением на тему: неотвратимость божьих заповедей.
И Тетка с улыбкой процитировала: «Не надо бояться, – видишь, он уже тогда любил патетику, – не надо бояться милосердия. Оказывать его – мое призвание, – но значит ли это, что так уж необходимо касаться руки нищего?…»
– Глупышка, и вечно-то у него крайности, – добавляла она с нежностью. – Знаешь, я теперь почти уверена, что брак с твоей сестрой был чем-то вроде искупления за прежнюю гордыню. А теперь он выволакивает из огня клетчатые крестьянские перины. Боже, как он выглядел, когда вернулся с этого пожарища!
Картина, врезавшаяся нам в память в тот вечер, действительно не имела ничего общего с образом мальчика, одержимого манией превосходства. Тетка как раз гнала меня пойти узнать что-нибудь об этом, как выразилась бачевская барыня, достойном сожаления случае. Надевая пальто, я выслушивал подробные указания, как вести себя, если батраки спросят, что обо всем об этом думает помещица. Тетке, видимо, хотелось убедить деревню в полной своей непричастности к беде, слишком явно связанной с первой попыткой овладеть усадебной землей.
– В долгие разговоры не вдавайся, пусть лучше своим умом дойдут, что это заслуженная и суровая кара за одну лишь мысль о краже, – поучала она и вдруг, легонько вскрикнув, оперлась рукой о кресло.
В дверях маленькой гостиной стоял Молодой. В волосах, которые он, испытующе глядя на нас, медленно прочесывал растопыренными пальцами, еще торчали остатки перьев из выброшенных на усадебный двор перин. Китель, вымазанный в саже, прожженный искрами, ничем не напоминал прежнюю его одежду – элегантную, несмотря на простоту, ладно сидевшую на его мальчишеской фигуре. Молодой Помещик опустил руку, Тетка подбежала к нему и, всмотревшись в странно выглядевшее без очков лицо брата, воскликнула:
– Глаза?…
– Ничего. Ты мне одно скажи, зачем тебе понадобилось даже коней сжечь? – неожиданно спросил Молодой.
И прежде чем Тетка успела как следует разглядеть его покрасневшие от дыма глаза, он повернулся и, не промолвив больше ни слова, будто вопрос его для нас и так очевиден, сделал несколько неверных шагов к двери своей комнаты и с треском захлопнул ее.