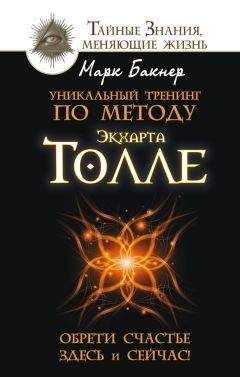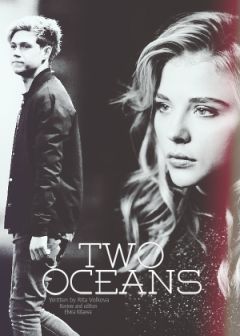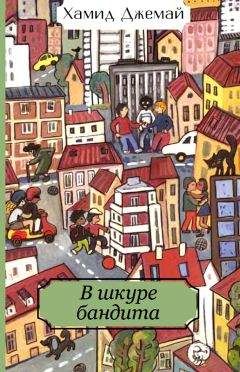Гилберт Адэр - Ключ от башни
Саша побелел. Вновь он выглядел как побитая собака — воплощением безутешного горя, и нижняя губа у него дрожала, как у ребенка, получившего нагоняй. Затем он вышел из комнаты своей обычной дергающейся марионеточной походкой.
И всего через две минуты мы услышали урчание автомобиля на подъездной дороге, а потом на улице. Беа подошла к окну и отодвинула штору. Я вопросительно посмотрел на нее.
— Пустяки. Я его знаю. Он вернется завтра же.
После ухода Саши в комнате наступило странное затишье — затишье после бури, а не перед ней, как утверждает присловье, и некоторое время мы с ней молчали. Ни Беа, ни я не находили, что сказать друг другу, даже если нам и было что сказать. Из ее молчания я сделал вывод, что она все еще раздумывает над случившимся, и потому не стал отвлекать ее вопросами, которые напрашивались. Но когда она заговорила, то всего лишь предложила выпить. Я опять спросил ее — ведь Саша ушел, и все было спокойно, — в чем, собственно, дело, все эти разговоры о ключах и башнях. Она ответила, что тут нет ровно ничего — во всяком случае, ничего такого, о чем она могла бы рассказать.
Я сказал, что выпью виски… и добавил, что, надеюсь, она знает, что может всегда рассчитывать на меня, если попадет в беду. Но, возможно, этих слов она не расслышала, потому что уже вышла в кухню, откуда до меня донесся звук открываемой дверцы холодильника, а секунду спустя — потрескивание кубиков льда, выламываемых из пластмассовых сот. Один запрыгал по столу и ударился об пол. Затем наступила тишина.
Прождав ее минуту-другую, я встал и прошел через коридор в кухню. На столе, выдвинутом из стены и делящем сверкающее чистотой пространство точно пополам, — эмалированный поднос и две наполненные льдом хрустальные стопки. Однако бутылки с виски не было видно. Я решил, что Беа отправилась на ее поиски в какую-нибудь еще комнату.
Я вернулся в салон и сел на диван перед стеклянным кофейным столиком, длиной почти равным дивану, который мог в этом отношении потягаться со стойкой гавайского бара. Я сидел, курил, думал, думал и курил — выпуская дым через одну ноздрю, а мои мысли, каковы бы они ни были, через, так сказать, другую. Уже полностью сбитый с толку событиями предыдущих суток, я совершенно не представлял себе, что произойдет дальше, и у меня начинало невыносимо стучать в висках. Я рассматривал, почти не замечая этого, прекрасную цветовую гамму обстановки салона: Балтус над каминной полкой (действительно великолепный), жанровые картины XVIII века, повешенные одним созвездием сбоку от камина, словно им полагалось быть частями одного большого полотна в обрамлении музея, и, наконец, кофейный столик передо мной. На этом столике обосновалась внушительная зажигалка в форме лампы Аладдина, ваза с элегантно ажурными — вероятно, искусственными — ветками ольхи, увешанными сережками. Стопки книг альбомного формата. Их корешки были строго параллельны друг другу (хотя названия на корешках располагались вверх ногами, но я прочел без особого труда: «Роберт Маплторп», «Кристиан Берар», «Ханс Беллмер» и самый с закавыкой «L'Histoire de la Peinture en Trompe l'Oeil»[58]). И тут я заметил на левом конце столика, симметрично стопкам на правом конце, еще один прекрасный альбом, раскрытый на одноцветной иллюстрации, половина которой пряталась под номером «Фигаро». Авторучка с золотым пером пересекала ее наискось.
Не могу объяснить почему, но мой взгляд остановился именно на этой конфигурации предметов. И именно на них (опять-таки, кто знает почему?) я решил сфокусировать взгляд так, чтобы все вокруг слилось в одно неясное пятно, и только книга, ручка и «Фигаро» четко выделялись на теперь смазанном фоне. Но все равно они оставались на слишком далеком расстоянии. Что-то понудило меня сесть прямо — до этих пор я расслабленно откидывался на спинку дивана — и рассмотреть все поближе.
Середина иллюстрации, повторяю, была прикрыта газетой и авторучкой, и теперь я разглядел, что под ними тянется подпись, но видны целиком были только первые и последние слова. Я прочел их. Слева от «Фигаро» было два: «La» и «Clé», а справа три: «de La Tour».
La Clé de La Tour. Ключ от Башни.
Я повторял эти пять слов про себя и по-французски, и в переводе. Потом совсем выпрямился и, небрежно смахнув авторучку, медленно поднял «Фигаро». Скрытая ими, занимавшая полный разворот иллюстрация оказалась глянцевой черно-белой репродукцией какой-то картины. И теперь без «Фигаро» и авторучки подпись можно было прочесть in toto[59], а именно: «La Clé de Vair» кисти Georges de La Tour[60].
На картине были две человеческие фигуры — обе поясные. Фигура слева от смотрящего изображала безбородого молодого мужчину с завитыми волосами, курносого и чуть одутловатого. В верхней части торса чудилась некоторая пухлость, как у евнуха, и писался он явно не с натуры — короче говоря, он не был таким уж убедительным изображением живого человека, если учитывать славу художника. Причем лицо было выписано куда менее искусно, чем одежда: складчатый берет, увенчанный страусовым пером, таким же непритязательным, как клуб табачного дыма из трубки, темная бархатная туника с дьявольски сложными, старательно выписанными завязками на плечах и камзол с многоцветной вышивкой на тему королевской охоты — нарядные придворные и охотничьи псы как сжатые пружины. Слева от него, то есть для меня — справа, стояла женщина. Однако различить ее черты было много труднее, так как в левой руке она держала свечу, освещавшую только нижнюю половину ее безупречно овального лица, из-за чего, если она позировала, эффект был значительно снижен. Ее пепельно-светлые волосы были уложены в тугой шиньон, из которого на смертельно белый лоб вдобавок к крутому локону выбилась непокорная прядь; ее глаза под длинными ресницами были даны, так сказать, в профиль — скошенными на мужчину, а рот у нее был чуточку приоткрыт, словно она как раз сказала ему что-то важное. Одета она была скромнее — в простое платье с полукруглым девичьим вырезом, украшенное только поясом, расшитым бирюзой и жемчугом, поясом, который ослеплял куда меньше, чем мог бы, из-за теней, которые, точно бабочки, окружали зловещее сияние свечи. Не считая этих двух фигур, в тесном пространстве, в которое поместил их Ла Тур — не больше монашеской кельи, — имелись еще только два композиционно значимых предмета: дверь, толстая деревянная ручка которой виднелась за фигурой молодого человека, и не то окно, не то миниатюрный пейзаж, написанный в диссонирующей перегруженной манере, напоминающей Эль Греко, — остров, встающий из бурлящего океана, сужаясь вверх и вперед в скалистый черный конус. На вершине этой скалы, будто воткнутый там флаг альпиниста, стояла каменная башня самой элементарной постройки и на вид абсолютно бесполезная, так как в ней не было ни двери, ни окон.
Собственно, имелась еще одна деталь — и самая многозначительная, однако выписанная так тонко, что я сумел обнаружить ее только после нескольких секунд напряженного разглядывания. Правой рукой женщина тайком передавала мужчине (хотя почему тайком? В комнате, кроме самого художника, не было никого, кто мог бы поймать их in flagrante[61], что бы там эти двое ни замышляли) маленький горностаевый кошелечек или футляр, оба конца которого были стянуты шнуром с прихотливыми кисточками. Форма, размеры и асимметричные выпуклости неопровержимо свидетельствовали, что внутри этого кошелечка или футляра находится ключ.
Под подписью была врезка с хроникой прошлого картины. Я завороженно читал:
«La Cléde Vair» («Меховой ключ») Ла Тура почти наверное был написан в начале 1640-х годов, на что ясно указывают два момента. Во-первых, на полотне есть подпись художника (по-латыни) у левого края, тогда как нам уже известно, что ни на одном из ранних полотен Ла Тура подписи нет. Во-вторых, пусть она и не столь яркий пример того, чего он позднее достиг в этом жанре, картина, без всякого сомнения, принадлежит к таинственной серии «ночных полотен», начатой, как принято считать, «Уплатой долга», ныне находящейся во Львовском музее. Бесспорно, датировка более позднего полотна всегда оставалась интригующим вопросом, поскольку рядом с подписью поставлена дата, но разобрать возможно только две первые цифры «16», а потому датировка, предложенная советским историком искусства и преданным поклонником Ла Тура Юрием Золотовым 16(41) или 16(42), остается открытым вопросом. Тем не менее картина настолько явно сходна с «Уплатой долга» стилем, техникой и композицией, что «La Cléde Vair» либо непосредственно предшествовала этому полотну, либо, что вероятнее, была написана не позднее чем через год или два.
О происхождении картины не известно ничего (то есть кто заказал ее и, учитывая неясность иконографии, зачем), и первые следы ее существования мы находим в начале XIX века в государственном архиве, где она упоминалась в описании коллекции Ивана Домского (1761–1829), московского вельможи, который, насколько известно, затем подарил эту картину в 1824 году Любомирскому музею в Санкт-Петербурге (где одно время находилась и «Уплата долга»). Хотя к имени художника он был равнодушен — он нигде его не называет, — Тургенев упоминает (к сожалению, мимоходом) ее в двух критических эссе о живописи, которые он написал в 1880-х годах; таким образом, мы можем предположить, что скорее всего она находилась в этом музее до революции 1917 года. Однако с этого момента никаких зафиксированных упоминаний о «La Cléde Vair» в России — или, разумеется, в Советском Союзе, как она начала затем называться, — больше нет, как и дальнейших подтверждений самого существования картины вплоть до 1937 года, того года, когда была сделана данная фотография.