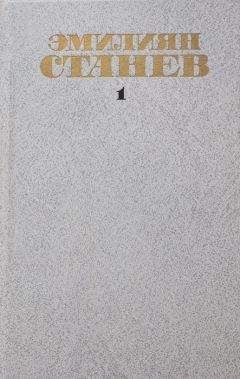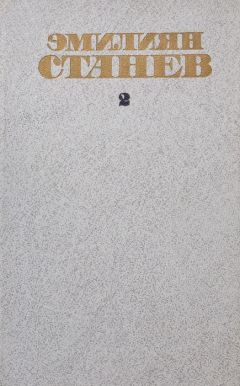Эмилиян Станев - Весна в январе
— В этом мешочке самка и сидит сейчас на яйцах, — сказал старик. — Сидит и не вылезает. Самец приносит ей пищу. Он кормит ее с того дня, как она снесет первое яйцо, и до тех пор, пока не вылупится последний птенец… Клесты — все равно что цыгане-бродяги. В этом году они здесь, на будущий их уже нет. Перекочуют туда, где будет пища. Видишь, что значит еда! Голод не тетка. Некоторые думают, что для размножения ничего, кроме весны, не нужно — тепло, и все, а вот для клестов тепла недостаточно, нужна еще и пища. А тепло он сам себе обеспечивает с помощью своего крепкого клюва. Видишь, какое большое и прочное гнездо он себе построил, а все благодаря клюву — им он расщепляет кору на тонкие волоконца. И еще у этой птички другое замечательное свойство: ее мясо не портится. Мне случалось ее подстрелить, просто так, чтоб разглядеть получше, — когда я был молодой. Положу ее в комнате в нишу, она лежит там помногу дней и не протухает. Я спросил одного ученого человека, и он мне сказал: «Это потому, что клест питается семенами, в которых много смолы». Вроде как бальзамирует себя при жизни…
Дед Мирю засмеялся, и под его заиндевевшими бровями молодо блеснули серые глаза.
«Цик-цик-цик! Цок-цок-цок!» — пел на дереве около нас клест-самец, сверкая на солнце своей красной грудкой и подрагивая крылышками, словно стараясь уверить нас, что ему сейчас так же хорошо, как хорошо другим птицам весной. Солнце немного прогрело воздух. Подтаявший снег посыпался с ветвей. Ветки, освобожденные от тяжести, подпрыгнули вверх, и в воздухе, как стеклянная пыль, заблестели тысячи снежинок. Волга и Мурат подняли зайца и погнали его вверх по ложбине, на дне которой еще таилась холодная лиловая тень…
ДИКИЕ ГУСИ
С приходом зимних холодов над городом появились первые стаи диких гусей. Выстроившись то клином, то огромной дугой, они летели в сторону гор и, подобно тонкой черной нити, постепенно втягивались в низкое, затканное тучами небо. Но не проходило и получаса, как в небе снова раздавалось жалобное гоготанье — цепочка гусей вырисовывалась все яснее и яснее, и вот уже можно было различить отдельных птиц. Вытянув вперед свои длинные шеи, они ритмично махали крыльями и, на что-то жалуясь друг другу, пролетали над засыпанными снегом улицами городка.
Как сладко и волнующе для уха охотника звучит их нежное и звонкое гоготанье! Выйдешь на улицу, посмотришь, как кидаются то туда, то сюда гусиные стаи, пытаясь одолеть страшные, окутанные тучами горы, и начинаешь понимать, как неумолима зима, как жестоко преследует она тысячи живых существ и как властно гонит их все дальше на юг. Эти птицы одни только будоражат и оживляют тяжелое серое небо, и в их плачущих голосах звучит суровость зимы. Они кажутся мне бесприютными сиротами, детьми, гонимыми бессердечным властелином.
Всю ночь они гоготали над городом, наполняя морозную декабрьскую ночь своими звонкими криками — словно по небу катились сани с серебряными бубенцами. Их домашние собратья посылали им со дворов дружеские приветствия. Только под утро умолкли их голоса. Дикие гуси опустились на дневку.
Утра нет, потому что нет и рассвета. На востоке, пробив толстую туманную одежду неба, на короткое время появилось небольшое мутно-красное пятно, но вскоре растаяло и исчезло. Однако свет, как будто излучаемый прямо снегом, разлился по земле, и равнина показала свою чистую белую грудь, на которой темнела вода реки. Лед сковал заводи, тонкая корка легла вдоль берегов, где течение быстрее, а дальше, на льду, образовавшемся этой ночью, нарисована искусная мозаика. Вода в реке кажется черной среди белизны поля. И вот туда, где берег открытый и ровный, и опустились дикие гуси.
Некоторые из них еще спят, завернув голову под крыло, только на кучках щебня, на самых высоких точках, бодрствуют, вытянув вверх шеи, гуси-сторожа.
Трудно охотнику подобраться к ним. Они не подпустят его и на сто метров. Поэтому мы с дедом Мирю решаем их обмануть. Мы разделяемся. Я иду к гусям, а он скрывается за заснеженными вербами, склонившими до самой земли свои белые одеяния. Он исчезает за ними, а я иду к стае и насвистываю на ходу, как велел мне дед. Расстояние между мной и гусями все уменьшается. Я ясно вижу ржаво-коричневые полоски у них на груди, строгие профили стражей. Вдруг раздается резкий, тревожный гогот, и все гуси вытягивают шеи: на снегу точно вырастает невысокий лес. Я все иду и иду, посвистывая, по белому полю. Наконец гуси взмахивают крыльями, поднимаются и длинной, плотной цепью быстро летят в сторону верб. Как плавен и стремителен их полет! Ледяной воздух звенит под напором крыльев… И тут из-за верб вырывается короткий красный язык пламени и раздается треск, снова вспышка и снова треск. Один гусь, качнувшись, растрепанным клубком падает в снег, другой резко летит вниз. Я радостно бегу к вербам, но вот второй гусь, который еще не достиг земли, выправляется и над самыми верхушками деревьев издает жалобный крик. Из стаи к нему устремляются еще две птицы, подхватывают с двух сторон раненого товарища и, подбадривая его частым гоготом, уносят за собой все дальше и дальше…
Дед Мирю держит убитого гуся за шею и, протягивая его мне, чтоб я его рассмотрел, говорит немного смущенно:
— Видишь, какие гуси хорошие товарищи? Как они спасли раненого! Из-под носа у меня увели. А я, дурак, уже считал, что он мой, не перезарядил ружья…
И снова устремляется то к северу, то к югу испуганная стая. Выстраивается в клин, поднимается все выше и старается перелететь через горы. И снова слышно, как катятся по небу сани с бубенчиками…
Однажды, когда мы бродили по болотистой равнине у реки в поисках диких уток, мы увидели издали два серых пятнышка. День был солнечный. Снег местами сошел, но на серо-зеленой, побитой морозом равнине все еще лежали большие белые пятна. Будто кусочки зеркала, сверкали лужи, отражая солнечные лучи и слепя своим блеском.
— Вроде гуси, — сказал старик. Он приставил руку к глазам и всмотрелся в серые пятнышки. — Ну-ка, глянь, у тебя глаза помоложе. Шевелятся или нет?
Я напряг зрение, но ничего нового не увидел.
Мы пошли вперед, прошагали метров сто и тогда ясно различили силуэты двух гусей. Они не двигались и следили за нами.
Не было никакой возможности подкрасться к ним незаметно. Равнина лежала перед нами просторная и голая. На западе она переходила в поля, а на юг, вдоль реки, тянулась все такая же плоская, как тарелка, усеянная лужами земля. Недалеко от гусей паслась отара овец. Пастух, который стоял, опершись на свой посох, закутавшись в толстый войлочный плащ, напоминал издали маленький цыганский шатер. Дед Мирю пошел к нему.
Пастух оказался его знакомым. Они поговорили об овцах, о том о сем, и дед Мирю попросил пастуха подогнать свою отару поближе к гусям.
— Не намокли бы овцы. Там топко, — сказал пастух, но вышел вперед и повел отару.
Мы пошли за ним, не пытаясь прятаться.
Гуси стояли неподвижно и смотрели, как мы подходим. Оба были обращены к нам в полный профиль — один чуть позади другого. Тот, что стоял сзади, был немного меньше второго и казался спокойнее, — видно, он предоставил своему товарищу решать, сниматься ли им с места или нет.
Овцы почти бежали, так как пастух волновался и спешил. Окруженные этой живой, колышущейся массой и словно увлекаемые ею, мы подошли к гусям шагов на сорок. Тот, который стоял чуть впереди, вздрогнул. В тот же миг старик вскинул ружье и выстрелил, но промазал. Гусь взлетел, другой тотчас, расправив крылья, последовал за ним. Дед Мирю выстрелил еще раз, и второй гусь, издав протяжный и жалобный крик, упал, сшибленный дробью. Он был ранен смертельно, но все же успел поднять голову и еще раз отчаянно позвать своего товарища, словно моля не оставлять его одного. Тот ответил таким же душераздирающим криком и вернулся. Его широкие крылья трепетали над нами. Он смотрел сверху на свою подругу, которая лежала на земле, откинув голову, и звал ее. Старик успел снова зарядить ружье, выстрелил, но не попал. Гусь поднялся, испуганный свистом дроби, и полетел к горам, чьи снежные вершины, озаренные заходящим солнцем, горели прекрасным рубиновым светом. Но минут через десять он вернулся, сделал над нами широкий полукруг и опустился метрах в ста.
Мы убили самку. Гусь не хотел покидать это место, и мы попробовали еще раз обмануть его с помощью овец.
На этот раз наша хитрость не удалась. Гусь, не подпуская нас к себе, поднялся, и по голубому, прозрачному, все еще зимнему небу скользнула его вытянутая вперед шея, испещренные белыми полосками крылья, сине-серые подкрылья. В косых лучах солнца сверкал белый хвост, и с каждой минутой гусь казался все более красивым и недостижимым. По блестящим лужам и влажной земле бежала его тень. Гусь продолжал звать свою подругу, и, чем дальше он улетал, тем печальнее становились его крики. Наконец он сел где-то на равнине.