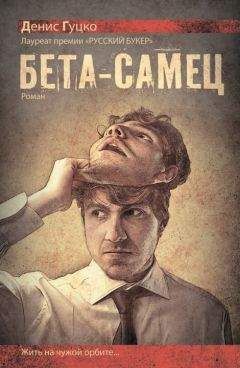Денис Гуцко - Домик в Армагеддоне
Костя молчал. Курицу чаем запивал. Доев грудку, посмотрел на белое острие хрящика, откусил и сжевал с хрустом.
– Как ни кинь… – сказал он, слизывая кусочки хряща с зубов, – Великая Россия… В вашем варианте вот – великая православная… Видишь ли, Фима, так уж как-то повелось у нас: величие российское к чему ни приставь – беда. Жестокое оно какое-то, величие наше. Каннибальское. Кому-то надо непременно в землю лечь, чтобы другим величия приобщиться. Так мы свою жизнь тут устроили, что ли… или никак не отвыкнем? Для меня вся эта ваша возня армагеддонская… Семье моей наше прошлое величие очень дорого обошлось. Один мой дед – говорил уже – безвестно на Волгодоне, второй – на химзаводе медленно, заживо. Двоюродные дядья, двое, на Северах застряли, уехали когда-то за длинным рублем, а доживают в нищете. И очередное, вот это новое величие… ваше ли, другое, все одно… боюсь, Фима, мне его придется оплачивать. Мне.
– Да ты бредишь! Отсидишься в домике своем.
– Ты не спеши, не спеши с прогнозом-то.
– У тебя паранойя, Костя. Кому ты такой нужен?
– Так-то оно так, не нужен пока. Тем, собственно, и пользуюсь. Размениваю общее величие на собственный домик с фонтаном. Видел, нет, у меня фонтан во дворе?
– И что?
– Сам сделал.
Новую салфетку скатал в комок.
Бог с тобой, Костя! И с твоим фонтаном. Буль-буль, Костя, буль-буль. А страна пока – ничья. Лежит, вами брошенная. Обмененная на товары заморские. Таким, как ты, ее не поднять. Она тем достанется, у кого воля тверже. От века так было, Костя, так и будет впредь. Не искать Киева под вами? Ну уж нет!
У нас был уговор не искать Киева под тобою, говорили Ольговичи князю. Но если ты приказываешь нам отказаться от Киева навсегда, то мы не венгры и не ляхи какие, мы внуки одного деда. При жизни твоей мы не ищем Киева, но после тебя – кому бог его даст.
Так-то, Костя, так-то. Кому бог даст!
Захотелось еще чаю, но просить не стал. Вставать, идти на кухню, чтобы поставить чайник – не пить же холодный, – лень было. Хоть яблок обещанных попробовать.
Будто мультяшные.
Надя вынула камеру из футляра.
– Можно, Костя, я сниму?
Взглянув на расчехленную камеру, Костя удивился:
– Зачем?
– Это как дневник. Всего лишь.
– Зачем?
– Чтоб интересней жилось. Чтобы было что снимать, приходится быть там, где интересно, – кивнула на камеру. – Работает навроде компаса.
– Снимай, если надо. Дневник у нее… Все вы, блин, с выдумкой.
Надя включила камеру, а Костя снова повернулся к Фиме:
– Но мы в сторону ушли. Ты скажи, я ведь чего хочу понять. Ну, великая страна, ну, хорошо. Но зачем Армагеддоном-то стращать?
Не хватало сейчас ребят. Просто чтобы стояли рядом – и думали так же, как он. И молчали. Не все поддержали его. Четверо. Мало – но тут не в числе ведь дело. Все разъяснится как-нибудь. Разъяснится всенепременно. Будут еще стоять рядом, локоть к локтю, плечо к плечу. Единые. Монолит. Как же может все рухнуть вдруг?
Никак не может. Вон разошлось как – кругами, кругами разошлось. С каким-то вот Костей-из-Солнечного сидит сейчас, спорит. И дальше только расти будет, будет разрастаться. С машиной, конечно, маху дали. Так без накладок ведь не бывает.
– Вот вы с флагом своим по дорогам бегаете. На флаге – крест с мечом. Не по себе мне от вашего флага. Честное слово, ну не по себе.
Костя еще говорил, говорил. Неожиданно Фима почувствовал глухую подавленность.
Кровь тугой струей хлынула у него из носа, прямо на стол, забрызгивая куриные объедки и вазу с райскими яблоками. Надя завизжала, вскочила на ноги.
Засуетились, Костя стянул с себя футболку, сунул ему под нос. Чужой запах. Пот чужой.
– Запрокинь! Запрокинь, говорю, голову! – Взял за руку: – Прижми вот так, подержи. Я сейчас бинт притараню. Держи, сказал!
***
Потом Фима лежал наверху, а снизу доносились приглушенные встревоженные голоса.
Костя спрашивал, Надя отвечала. Говорили, понятное дело, о нем. И о том, как они только что героически спасли его от носового кровотечения. Раза два скрипели деревяшки – кто-то из них ходил к лестнице, вслушивался в тишину наверху, наваливаясь на перила. Ложка звякала о чашку – размешивали сахар. И снова тревожное: бу-бу-бу. Ему хотелось крикнуть им: да хватит уже бубнить! Было не по себе от этого бубнежа. Будто он – опасно больной, а они – вот ведь назойливый какой образ – семья, дежурящая у постели больного. Ночник включили на тумбочке.
Он сочился бледным желтоватым светом, вычертив глаз посреди потолка. Ни дать ни взять – картинка из русской классики. Нелепость. Было б из-за чего… бубнят, бубнят… Под носом кусок бинта. Кровь остановилась почти сразу. У него так бывает.
Медик в Стяге сказал: ничего страшного. А эти устроили…
Ну и пусть. Пусть. Подыграет им, поваляется тут, как гриппозное дитя. Уложили в детской… Как тот кусок у Набокова, когда больной мальчик ясновидит. Зачитывался когда-то. Глупый был, читал все подряд. Про карандаш. Как там?
Жар схлынул, я выбрался на сушу. Мысленно видел мою мать в шеншилях и вуали с мушками… она поехала покупать одну из тех чудаковатых вещей… зеленый фаберовский карандаш… за десять рублей… Мое ясновидение прервалось – Ивонна Ивановна принесла чашку бульона с гренками.
Да, сейчас бы еще Ивонна Ивановна зашла, с бульоном. Недаром писателишка нерекомендованный: все у него шеншиля-вуаля и чашка бульона.
Кровать в виде автомобиля. Красный гоночный автомобиль. Короткая кровать, ноги не помещаются. А ребята сейчас в темной, на голых досках.
Не детская, а магазин игрушек. Со всех сторон – самолеты, танки, солдаты разных эпох и размеров. Всего так много, бесконечно много. Повсюду: на полках, на столе, на полу – крылья, гусеницы, сапоги. Зачем столько игрушек, неужели их все можно любить? Дали ребятам в темную хотя бы одеяла на ночь? Могли не дать. Сегодня первый день – значит, из еды был только чай и пряник.
Баба Настя подарила ему на какой-то из его дней рожденья набор солдатиков.
Красивые такие солдатики. С большущими бицепсами, голые по пояс. Огромная коробка. Еще до школы. Да, ему было, наверное, столько же, сколько сейчас младшему Крицыну. Дети были приглашены соседские, мальчик Тоша и девочка Даша.
Тоша-Даша, он их называл. Он в общем-то и не дружил с ними, хотя оказывался часто в их компании: бывало, баба Настя, когда уходила куда-нибудь в вечернее время, просила маму Тоши и Даши, чтобы Фима побыл у них. Их сажали за стол и давали альбомы с карандашами. Занятие это никому из троих не нравилось. Тоша-Даша пялились мрачно на Фиму и показывали ему язык: ведь это из-за него их усаживали рисовать. Если они брались за карандаши, то чаще всего рисовали дураковатого карлика за руку с Бабой-Ягой. Ничего, кроме рисования, Тоши-Дашина мама никогда, кажется, не предлагала. Видимо, опасаясь шума и беготни в квартире.
В тот раз баба Настя решила устроить ему настоящий день рожденья, с гостями, с пирогом, с дорогим подарком. А на роль гостей других кандидатур, кроме Тоши-Даши, не было. Они подарили Фиме набор фломастеров. Синий там был исписан.
На оберточную бумагу бабе Насте не хватило – и без того, наверное, копила не один месяц, – а она хотела, чтобы красиво было. Завернула коробку с солдатиками в цветастую тряпочку. Тесьмой наверху стянула. Отдала ему, обняла голову сухими, громко прошуршавшими по вискам ладонями, ткнулась губами в макушку и отступила на шаг – чтобы удобней было любоваться его радостью, когда будет распаковывать подарок. Тоша, увидев одетую в нелепую тряпицу коробку, хихикнул и шепнул что-то сестре, и та хихикнула тоже. А баба Настя дергала заартачившийся узел и приговаривала: “Да ты глянь, глянь, мой хороший!”.
Нужно уснуть и встать пораньше. Часа три уже, наверное. И сразу к своим. Еще неизвестно, как все обернется.
***
Двор обсыпан росой. Трава, пара керамических уток, крицынский “форд” – все в росе. Голова тяжелая с недосыпу. Подошел к тому борту, на котором была надпись.
Пальцем потер.
Да ладно. Так вышло. Стечение обстоятельств.
Прошелся медленно вдоль газона – несколько раз сверкнули осколки радуг. Уселся на борт фонтана. Фонтан выключен. Пластиковое дно с сырыми пятнами. Облепленный песком и хлопьями грязи шланг ползет по дну. И длинный ржавый сосок торчит.
В доме все еще тихо. Проснувшись, натянул джинсы и сразу вышел. Неприятно было в чужой детской – ощущение, будто воровать влез. Не стал искать ванную, умылся на кухне.
Спят еще оба. Надя, та до вечера может продрыхнуть.
Чужой дом, пропитанный чужой жизнью. Населенный вещами чужими, чужими запахами.
Чужие лица смотрят с чужих стен. Вся прошлая ночь – чужая, придуманная не для него, по ошибке ему доставшаяся. Валить отсюда нужно. В Стяг, к своим. Хотелось скорее пожать им руки, поздороваться сдержанно, без лишних эмоций: “Как вы, что слышно?” Не доберешься до них сегодня – “Александр Невский” в наряде, вряд ли пустят. Даже не позвонишь, телефоны-то отбирают. Он однажды просидел в темной сутки, за то, что матом выругался. С крокодила прыгали, он неудачно приземлился – и вырвалось. Лучше б ему с ними сейчас быть. Гад Тихомиров – разбил их: они в темной, а он вот здесь.