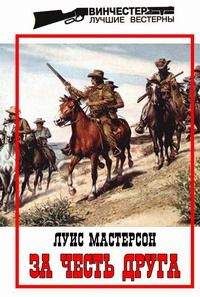Юлий Крелин - Исаакские саги
— Алексей Васильевич, я, по-прежнему, против диссертации. Но, как сказал Генрих Наварский: Париж стоит мессы. Забудем про КПД. А меня в ассистенты пропустят?
— Ну вот! Я ж говорил, эрудиция для соискателя достаточная, — шеф засмеялся. — Я сегодня иду к ректору, вроде лицензии на отстрел евреев отменили. Пропустят. Я же раньше молчал.
Игривость шефа, по-видимому, была связана именно с еврейскими проблемами. Ему самому, выходцу из дворянской среды, эта ситуация неудобна и неприятна. Так расценил Борис слова и ужимки шефа, обычно, более величаво разговаривавшего со своими помощниками по кафедре, да и со всеми врачами больницы.
Короче, надо, пожалуй, начинать работать над диссертацией. А вообще-то, без диссертаций, этих кропаний статей и прочего, жизнь, не в пример, вольготнее. Но ведь, действительно, Париж стоит мессы.
Клинический материал у него уже кое-какой накопился. Значит, прежде всего, надо заняться литературой. Всё это какой-то бред. Нужная литература для дела ему известна, в статье упомянуты, рефераты есть. Но для обзора надо капать в него всё, что к проблеме близко, а заодно, что дальше тоже. И это называлось умением работать с научным материалом.
Борис уже заранее ненавидел эту работу, потому что делать надо исключительно из-за денег; а желания сбросить этот камень с тела и выбросит грязь сию из души, заставило его выкинуть боевой вымпел, забить в тамтамы, выйти на тропы войны, то есть пойти в Ленинку и начать поиск всего, что давно найдено. По дороге он вспомнил шутку: основная задача молодого учёного убедить жену, что Ленинка работает круглосуточно.
Подбирать материал по журналам работа нудная и потому, чтобы разогреть себя, разогнать желание обратиться к научному печатному слову, он брал какую-нибудь интересную книгу и лишь почитав, войдя в библиотечную ауру, переходил к журнальным поискам. И опять по косвенной аналогии вновь вспомнил ерунду: Эдуард Второй Английский, будучи гомосексуалистом, страдал от отсутствия наследника, поскольку монарх и династия требовала. Для этого он в постель укладывал с одной стороны любовника, с другой жену. Разогревшись на предмете страсти, он в последний момент успевал перекинуться и закинуть свои хромосомы в лоно носительницы надежд династии.
Больше месяца длилась эта тягомотина с ненужной литературой. Набрав достаточно, он сел за стол и начал писать.
Не хотелось.
Статья им была уже написана и даже опубликована ещё до предложения шефа. Все карточки для литобзора и клинические данные, как говорится в медицинских кругах, он расклеил по большой чертежной доске и поставил её перед глазами на краю стола, прислонив к стене. Готовился. И время тянул. Хотел или не хотел, но всячески оттягивал начало — первые буквы, слова, фразы своего будущего фундаментального, бессмертного труда.
Чтоб разогнаться в библиотеке, он брал книги. Дома брать их боялся — это могло стать неостановимым процессом чтения. Время писать — время читать. Время камни собирать. Бумага, ручка… И… Стал вспоминать случаи, больных достойных его диссертации, но в голову приходили лишь какие-то сюжеты из жизни дома, улицы, больницы. Почему-то он стал записывать их в виде рассказов. Увлёкся. Но, расписавшись, он хватался за голову и насильно заставлял себя переходить на сухой язык науки — почему-то считали, что в науке (во всяком случае, в медицине, будто она наука, а не гибрид ремесла и искусства) должен быть особый сленг, который больше производил впечатление квазинаучного. Он приводил литматериал, клинические данные и прочую дребедень, никак не прибавляющую ничего к его предложению по пониманию и лечению интересующей коллег болезни… Так и на следующий день. И на след… и ещё…
Так и писал, то псевдонаучным полуканцелярским языком с медицинским флером. То переходил на рассказики, вспоминая свою хирургическую жизнь и быт.
Получался странный график дня, жизни. Приходил он в больницу в восемь часов. Короткий оббег своих больных. Потом утренняя пятиминутка, эдак, на полчаса. Затем до двенадцати занятия со студентами, после которых перевязки, операции, записи историй болезней. В шесть уходил и упражнялся писаниями. В десять — гульба. А это уж как придётся.
Иногда он уходил раньше. В консерватории у него был контакт с билетёрами. За пять рублей его пропускали и он всегда сидел во втором амфитеатре у прохода. Контакт с Борисовичами. Не Рюриковичи иль Гедиминовичи. — совсем не княжеского рода были Борисовичи. И кажется даже не родственники. Так он называл административный клан Большого Зала. Директор был Ефим Борисович, заместитель его Марк Борисович, администратор Павел Борисович, а у входа Клара Борисовна. Борисовичи!
Однажды он пошёл днем на репетицию приехавшего дирижёра из Германии. Абендрот— в период Гитлера он жил у нас, в нашей стране. А нынче приехал в гости. Гастроли с Запада были редкие. Он давал один только концерт и студентам консерватории иным музыкантам и, так, разным пройдохам типа Бориса, разрешено было присутствовать на его репетиции. Опять девятая симфония Бетховена. Она сопровождала Бориса по жизни. Абендрот дирижировал, временами прерываясь на какие-то замечания. Лишь один раз Борис понял, что речь о призыве к немецкому духу. И действительно, они повторили совсем по иному. Как это получается, Борису было не понять. Размышляя на эту тему и досадуя на свой недостаточно культурный уровень, он в гардеробе повстречал некую Веру, свою давнюю знакомую, ещё по студенческим временам. Она тогда училась на филфаке в университете, а сейчас считалась писательницей. Считалась, так про себя сказал Борис, потому что сам он ничего не читал и не слыхал даже о каких-либо её публикациях. Что тоже попенял своему уровню эрудиции. Тем не менее, он заговорил с эрудированной филологиней об озадачившей его поправки Абендрота. Шли они домой пешком, благо она жила недалеко. У подъезда дома она предложила зайти на чашечку кофе. Жила она одна. С мужем развелась. А дочка была у бабушки. Борис зашёл сзади снять с неё пальто, и их долгий музыкальный разговор закончился тем, что, помогая ей в борьбе с одеждой, он обнял и притянул её спиной к себе. Автоматически — поза призывала. Она не стала возражать и, развернувшись нему лицом, подтянула его голову к себе и поцеловала. Борис не стал отмахиваться. Нацеловавшись, они всё же решили и кофейку попить. Она поставила чашечки на маленький столик перед тахтой и двинулась в сторону кухни. Борис взял ее за руку и подтянул к себе. «А кофе на потом, Не возражаешь?» Она засмеялась. «А что ты называешь до потом?» «Сейчас посмотрим. И в восторге беспредельном может в светлый войдё-ё-ём чертог» «Бетховен тебя сильно одолел» Это она уже сказала лёжа поперек тахты рядом с ним. Он приподнял свитер. «Помнёшь, порвёшь всё» «Так сними» «Ты торопишься?» «Хочу кофе. Пусть быстрее будет потом» «Дай хоть постелю. Ковёр на тахте колется» Кофе они пили нагими, по-видимому, чувствуя себя таитянами. Но разговоры при этом были вполне цивилизованными и интеллектуальными. От музыки они перешли к науке, литературе. Борис пожаловался на необходимость писать диссертацию и, раскололся, сказал, что, скрашивая занудство научного творчество, пишет параллельно какие-то рассказики. Вера уговорила его почитать ей. Вроде бы, мэтр она для него. Писательница всё ж.
Работа над диссертацией несколько приостановилась, но потом он вошел в обычный график: приходил к Вере около десяти, что и шло по рубрике «гульба». Чтение рассказов перемежались более понятными занятиями. Понятными и может быть более приятными. Для кого и зачем? Жизнь покажет. Во всяком случае, Вера очень комплиментарно оценила его рассказы. Говорит, что надо печатать. Борис удивился. Не поверил. Но встречи продолжались, отвлекая от диссертации. Понятно — приятное дело предпочтительнее не больно любимой необходимости. Повышение зарплаты, деньги для Бориса никогда не были выше истинного, естественного, природного удовольствия.
Через некоторое время рассказы его с её подачи прочитал ещё один ценитель. И он заговорил о публикации. Сам Борис никуда не ходил, никуда их не носил, но критик, который с похвалой отозвался о них, сам же и отнёс. В журнале понравилось, приняли. Самомнение Бориса повысилось, но диссертацию, худо-бедно, но писать продолжал.
С Верой он встречался всё реже и реже. Так получилось. Ну, уж не диссертация тому была причиной. Однажды, вечером она ему позвонила. «Боря. Говорю из метро „Арбатская“, рядом с тобой, из медпункта. Мне стало плохо. По-моему внематочная. Вызывать скорую?» Боря пошёл, побежал к ней. Досада и полное неверие в это. Не верил — и всё. Не верил, вспоминая её поведение. Но она даёт ему понять — причина он.
Пришёл. На внематочную непохоже. Живот мягкий. Когда щупаешь, говорит, что болит. Да не так, как при внематочной. Брать на себя ответственность побоялся и увёз к себе в больницу на такси. Там тоже отвергли её диагноз. Гинекологи нашли кисту и сказали, что лучше оперировать. Но не срочно.