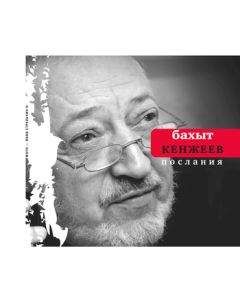Бахыт Кенжеев - Портрет художника в юности
Как я уже сказал, сестренка той зимой была в санатории - подвальный воздух, вздыхал доктор Бартос, едва не довел ее до туберкулеза. "Лесная школа, - добавил он, - вот что ей абсолютно необходимо" - и не просто добавил, а тут же начал выписывать длиннющую, безбожно преувеличивающую нездоровье Алены бумагу, которая помогла родителям сравнительно быстро получить путевку. Я скучал без сестры, и читал больше обыкновенного. Особенно поэзию: конечно, я сознавал, насколько ниже нашего стоит это, пускай и благородное, искусство. Однако же между мной и экзотерикой до сих пор лежала пропасть почти неодолимая, а со стихами я робел меньше. Я мог, например, подойти на большой перемене к Марине Горенко, первой красавице нашего класса, посмотреть на нее многозначительным взором, прочесть завывающим голосом нечто вроде: Друг мой. Брат мой. Усталый, страдающий брат! Кто б ты ни был, не падай душой, пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землёй... Я, в сущности, был еще совсем мальчишкой, а Марина, даже в коричневом форменном платье и белом переднике, - вполне оформившейся молодой барышней, которую в прошлом веке уже начали бы вывозить на балы, и даже в наши дни где-нибудь в Индии или в Саудовской Аравии уже числили бы в девушках на выданье. Она брезгливо умоляла меня отстать и рано или поздно звала на помощь Ваню Безуглова, за ним спешил Коля Некрасов, - и дореволюционный томик печального бородатого Надсона, списанный маминой библиотекой, был однажды с большой торжественностью пущен на бумажных голубей, разлетевшихся во все стороны над лазурными московскими снегами из окна четвертого этажа нашей школы. Как было холодно той зимой. Я искал тепла, и снова вспоминаю вход в метро, и продолговатый зал моей "Кропоткинской", украшенный беломраморными шестигранниками колонн (две, в самой середине, почему-то были квадратного сечения - мудрость архитектора или его недосмотр?), иногда - залы расположенной по соседству Академии художеств, куда забредал я в одиночестве на выставки соцреалистических картин и почти въяве мог созерцать мужественных комсомольцев на фоне строительных лесов, вдохновенных физиков у синхрофазотрона и отважных партизан времен Отечественной войны - но не у взрываемых поездов, а почему-то, как правило, в фашистском плену, - и были еще блуждания без цели, без средств, без особого направления, может быть - с томиком Северянина под мышкой, с чтением блестяще-пустых, полных непонятной мне тогда горькой иронии строк под ускользающим светом вечернего ртутного фонаря, из тех, что были в тот год повсеместно установлены расщедрившейся городской управой (старые безжалостно низвергались на промерзшую землю, и к моим детским сокровищам добавилось в ту зиму несколько крупных кусков плексигласа, отломанных от прозрачных колпаков поверженных фонарей - чудного матерьяла, сочетавшего в себе светопроницаемость стекла с легкостью и прочностью пластмассы, матерьяла, к созданию которого не могли не приложить руку алхимики).
Но зима, как и всякая зима, завершалась, наконец. Уже в марте непременно бывал день, который по особенной ясности воздуха, по неудержимому пиру солнечных лучей над начинающим таять снегом, означал глубокое и свободное дыхание, расширенный взгляд, короче - ту самую весну, которая в последние годы моей бестолковой жизни по большей части проходит столь же незамеченной, как и любое другое время года. Я поднимаю голову от слабо мурлыкающего компьютера и с прискорбным равнодушием констатирую, что листья на клене под моим окном уже довольно велики, улицы просохли, и почему бы, собственно, выходя за моей вечерней бутылкой, вместо пальто не надеть плаща, хотя, возможно, и будет холодновато. Те вёсны, и та весна не исключение, были праздником, первого мая всегда, словно по заказу, светило непревзойденное солнце, в кармане лежала купленная у уличного торговца глиняная обезьянка на резинке, с ножками и ручками из стальных пружинок, и ты долго заставлял ее прыгать то вверх, то вниз, покуда, наконец, резинка, пребольно щелкнув руку, не разрывалась, а сама обезьянка не отлетала в сторону, чтобы разбиться на мелкие кусочки - снаружи алые или синие, внутри - тускло-зеленые, как та глина, из которой лепил портреты Героев Социалистического труда народный скульптор. Открывались парки и начинало темнеть так поздно, что грабители с большой дороги у Дворца пионеров уже не отваживались выходить на ежевечерний разбой.
Зима кончалась, однако весной, отчасти разочаровавшись не только в поэзии, но и вообще в чтении, я начал отдаляться от родителей. В какое лютое раздражение (подхлестываемое, кто спорит, брожением юношеских гормонов) приходил я, когда усталая после работы мама просила меня последить за обедом на кухне. Сейчас мне стыдно за свой гнев. Я закрываю глаза и вижу суп в закопченной алюминиевой кастрюле, пар над кастрюлей, прыгающие в кипятке куски простой еды - морковка, картошка, лук, костистое мясо - и мать, со вздохом опускающую на выщербленный изразцовый пол кухни тяжеленные авоськи со всем эти добром. Но я был другим тогда. Мелкие черные муравьи, во всякое время года суетливо снующие по вытертой клеенке нашего массивного кухонного стола, одного из дюжины стоявших на кухне, обгоревшая консервная банка с остатками спичек на плите, серолицые старухи, готовившие жалкое пропитание в нечистой посуде - какой безысходностью наполняло меня созерцание нашего скудного быта. Другие родители, размышлял я, дарят своим детям магнитофоны и стереопроигрыватели, приобретают в дом модные эстампы и торшеры, а отец по-прежнему, как оглашенный, ежевечерне слушает нашу "Ригонду", и довольствуется предсказуемым существованием, еженедельными походами к бабушке - купаться, изредка - кино, еще реже - лыжной прогулкой, куда он в ту зиму отправлялся чаще всего в одиночестве, а если и брал меня - то уже без той простодушной радости, как два года назад. Преданность экзотерике должна была бы излечить меня от столь пошлого направления мыслей, подумаете вы, и, несомненно, ошибетесь. Едва ли не любой подросток более всего на свете озабочен соответствием своей участи среднеарифметической судьбе сверстников - и я не был исключением.
Когда отец задерживался на работе, а мама уже ложилась, я начал воровато вставать с дивана и слушать зарубежные радиостанции сам, пытаясь понять, чем они так привлекают моего молчаливого и замкнутого родителя. Дикторы со зловещим акцентом потешались над программой правящей партии, повествуя же о жизни в далеких странах - врали так безбожно, что мне становилось за них стыдно. Выходило, что в какой-нибудь Америке у семьи вроде нашей было бы два автомобиля, исполинский холодильник (помню особую программу, посвященную бытовой технике), а может быть, даже и по отдельной комнате на каждого человека. Кроме того, мы бы ежегодно ездили отдыхать в загадочную Флориду, побывали бы в Европе, а мама могла бы вообще не работать. Как смехотворно все это звучало. И как низко должны были пасть эти дикторы (белогвардейцы и власовцы, разумеется), чтобы за свою нищенскую зарплату ("долларовые подачки", с негодованием говорил я Володе Жуковкину) так бессовестно обманывать своих соплеменников. Как ужасно, что отец, не добившись ничего в жизни, интересовался этими сказками - а значит, ловился на удочку буржуазной пропаганды. К апрелю я перестал слушать радио и стал читать существенно меньше. Я не был ни в кого влюблен, я еще не брил бороды (помню авторитетные, неторопливые разговоры между Ваней Безугловым и Игорем Горским по поводу сравнительных качеств бритв опасных и безопасных, механических и электрических), и единственное, чем мог похвастаться (только не перед кем было) - умением замереть на весенней улице, прислушиваясь к влажной, обнадеживающей тишине нашего переулка, вдыхая запах тающего снега, и различая за чириканьем воробьев доносящиеся откуда-то отрывки незнакомого эллона.
Для предстоявшего в мае испытания Вероника Евгеньевна посоветовала мне выбрать этюд Ходынского "Весна в Иудее" - милую, изящную игрушку, которую он сочинил лет в пятнадцать. Я начал всерьез репетировать перед зеркалом нашего дубового гардероба уже в марте, и не раз мои занятия прерывались сердитым стуком в дверь, когда то одна, то другая соседка призывали меня прекратить кошачий концерт. Даже нелюбопытный человек (он еще был жив тогда) дядя Федя однажды ворвался было в нашу комнату, но замер на пороге, уставившись на меня в великом недоумении. "Как по телевизору, значит, показывают," - пробормотал он, и вдруг, заметно просветлев, протянул мне свой дионисический стакан с коричневато-красным портвейном. Я вежливо отложил лиру и отпил половину глотка. "За искусство, Алеша, - дядя Федя осушил стакан, - чтоб ему пусто было, потому как весь день точишь ножи-ножницы, и хочется, честно говоря, принять свои двести грамм и как-то отдохнуть по-человечески, а впрочем, Бог с тобою, играй дальше.".