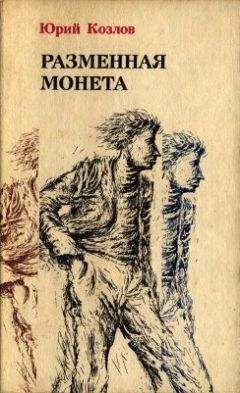Пер Энквист - Пятая зима магнетизёра
Она снова и снова заклинала меня спасти ее; помню, я стоял на коленях, опустив голову на ее голую руку, отчетливо и мучительно сознавая, что ничего сделать не могу! Описать мои тогдашние мысли я не в силах — скажу только, что был словно парализован, но какие терзания испытывал, этого словами не передать.
Я пытался молиться Богу, но скоро перестал, потому что в обычных обстоятельствах я в Бога не верю и не молюсь. В этом я следую традиции: отец преподнес мне в дар сомнение как дорогое ювелирное изделие, как драгоценность. Неверие было предметом его гордости. Даже на смертном одре продолжал он рассуждать о своем неверии, которое считал неколебимым. Чуть ли не кокетничал им.
Я не хотел поддаться искушению пококетничать неверием за чужой счет и потому пытался молиться за жену.
Вскоре ей стало хуже.
Впоследствии оказалось, что болезнь у нее пустяковая. И вера или неверие тут ни при чем. Но воспоминание о чувстве собственного бессилия у меня осталось.
В последние годы я не раз задумывался о том, что мог бы заняться ремеслом отца — торговать готовой одеждой.
Мой друг Арнольд Штайнер (мы с ним друзья, хотя он тоже врач) обычно называет Зеефонд городом раскола. Он имеет в виду религиозный раскол. Вопреки обычной практике (впрочем, обыкновение редко служит аргументом, способным воздействовать на людей в вопросах веры), так вот, вопреки обычной практике в нашем городе есть и католики, и протестанты. Это влечет за собой практические, но прежде всего политические трудности.
Теперь, в отзвуках извержения французского вулкана, все пошатнулось и размылось. Городские власти явно обеспокоены тем, сколь далеко может зайти влияние революции. Все ждут, подозревая друг друга.
Сам я формально католик, но, понятное дело, религиозные вопросы меня не интересуют. У меня есть моя работа.
«У тебя есть твоя работа», — говорит согласная со мной жена. «Да», — соглашаюсь я. «Работа — это твоя вера», — глубокомысленно говорит она. «Да», — нетерпеливо подтверждаю я. «Подумай, скольким людям ты спасаешь жизнь», — говорит она. «А я спасаю?» — спрашиваю я. Тогда она смотрит на меня удивленным взглядом.
Мы часто не понимаем друг друга.
Мало-помалу я стал сомневаться в своем ремесле. Не в его методах, но в том, что касается цели наших усилий.
Три месяца тому назад я провел некоторое время в Берлине. Там я познакомился с тайным советником доктором Грессе, который подробно описал мне историю болезни одного из своих пациентов. Речь шла о молодом пруссаке — на войне, в последнем походе ему саблей отрубили нос. У молодого человека была невеста, которая с присущим женщинам безошибочным умением отличать важное от второстепенного заявила теперь, что не желает иметь безносого мужа, а герой он или нет, ей все равно.
Грессе обещал произвести операцию по методу Тальякоцци[2].
На коже левого предплечья (над Musc. Biceps) с внутренней и с внешней стороны на расстоянии двух дюймов один от другого были сделаны два параллельных надреза примерно четыре дюйма длиной. Я записывал все данные, так что в этом отношении мой отчет совершенно точен. Участок кожи между надрезами был, потом с нижней стороны отторгнут от плоти и отделен от нее с помощью разглаженного льняного лоскута, который вдвинули под кожу и оставили там, пока не началось нагноение. Через некоторое время лоскут кожи был освобожден в своей верхней части и подобным же образом отделен от раны. Когда этот лоскут кожи, который к тому времени распух, задубел и стал казаться до смешного инородным, — так вот, когда этот новый телесный орган стабилизировался, ему с помощью ножа придали нужную форму и окровавленными концами прикрепили к обрубку носа, зарубцевавшиеся раны на котором снова были вскрыты. При этом, конечно, пришлось очень сильно согнуть руку пациента — его голова и рука были связаны вместе крепкими бинтами. Я сам присутствовал при этой операции. Она была очень болезненной, но молодой человек упрямо стиснул зубы. Его голова была круто повернута в сторону, и нелепо изогнутая рука прижата к ней.
Не знаю, как долго смог бы я сам выдерживать такую пытку. Молодому человеку пришлось терпеть тринадцать суток. В результате образовался уродливый комок, мясистая шишка, красная и блестящая.
Доктор Грессе увлеченно говорил о громадных возможностях, которые открывает этот метод. Я, разумеется, с ним соглашался. С горящими глазами описывал он мне мир будущего, в котором станут возможны самые фантастические свершения, самые немыслимые операции.
И вот я возвращаюсь в Зеефонд. Ночью жизнь на его улицах почти замирает. Кажется, будто я один во всем городе, одинокий в своем унынии, одинокий в своем разочаровании, одиноко и равнодушно продолжающий делать свое дело.
Поездки в Берлин почти всегда подбадривают меня. Но возвращение… Снова пиявки, снова заседания городского совета, снова вопросы жены, снова мое день ото дня возрастающее равнодушие. Возвращение всегда смывает следы поездки. И тягостное чувство по-прежнему со мной.
Я выбираюсь из кареты, прохожу мимо служанки, которая вышла меня встретить: в руке свеча, на губах сонная улыбка, платье надето кое-как.
Я молча вхожу в свой дом.
Я очень редко нарушаю свой повседневный распорядок — я пришел к выводу, что, когда следуешь заранее составленному плану, получаешь наилучший результат. Можно подумать, это и так каждому ясно, однако нет, я, во всяком случае, уразумел это далеко не сразу. Мой друг Штайнер постепенно приобщил меня к чуду систематичности.
Штайнер принадлежит к числу тех, кого нелегко поколебать: выстроенный им мир незыблем и устойчив. Существуют и другие миры, говорит он обычно, но я держусь того, который устойчив. Он склоняет над письменным столом лицо с тонкими искривленными губами, с глубокой щербиной под нижней губой и почти белокурой бородкой, которая придает Штайнеру юношеский вид, хотя ему за тридцать. Свои бумаги он держит в небольших самодельных коробках; чтобы порядок в его кабинете не выглядел слишком уж совершенным, я, приходя к нему, расталкиваю коробки во все стороны. Эту шутливую выходку, к которой мы оба привыкли и которая давно потеряла новизну, Штайнер принимает с невозмутимым спокойствием. Руки у него тяжелые, квадратные — Штайнер никогда не жестикулирует. Его кисти неподвижно лежат на столе; он поднимает их только для того, чтобы ударить словно молотком. «Политика, — непреклонно говорит он, — это метафизика неверующих, а я не приемлю никакой метафизики. С нами, врачами, в мир приходит порядок». Штайнер делит мир на маленькие квадратные участки и критически рассматривает их, с раздражением отметая всякую смуту. «Скоро, — говорит он, — нам удастся разжечь последнюю религиозную войну: ее огонь истребит все, выживут только те, кто смотрит на мир со спокойным недоверием и кто стоял в стороне. Тогда мы снова выйдем на свет из горных пещер, — торжествующе говорит Штайнер и, подводя итог, грохает по столу молотком своих кулаков. — Уцелеют только недоверчивые, они разумно устроят мир, ведь мы взяли разум с собой в пещеры, и он уцелел вместе с нами».
Я с улыбкой киваю головой, не желая охлаждать его пыл.
Вчера он рассказал мне забавную историю. Сразу после смены ночной стражи в город прибыл человек — совсем один, если не считать сопровождающего его слуги. Он приехал в карете и снял номер в гостинице. Проспав несколько часов, слуга спустился вниз и сообщил двум приказчикам бакалейной лавки, что его хозяин чудотворец! Он умеет вызывать дождь! И лечить животных! Слух уже распространился по городу, и Штайнер с нетерпением ждет первой схватки — больше всего на свете он любит стирать в порошок чудотворцев. «Надеюсь, он и впрямь чудотворец, — заявил Штайнер, — в единоборстве с подобными людьми и проявляется мое величие». — «Что-то это величие до сих пор слишком стыдливо себя таило», — возразил я. «Подождите и увидите», — ответил он.
В невозмутимости Штайнера есть что-то детское. Он твердо верит в себя и не верит ни во что сверхчеловеческое. Я ему завидую.
Большинство его пациентов очень богаты, но это вовсе не значит, что сам он человек состоятельный. В Зеефонде много состоятельных людей, но врачи не принадлежат к их числу.
Потом я снова услышал о чудодее.
Он по-прежнему живет там, где остановился. Никто с ним не говорил. Он часто выходит из дому поздно вечером; люди глядят на него с любопытством, как обычно глядят на чужаков. Больше ничего не происходит. Возможно, он скоро уедет.
Вчера я его увидел. Странное лицо — широкие скулы, очень темные, глубоко посаженные глаза. По-моему, в нем чувствуется что-то монгольское. Он называет себя Мейснером.
В картине мира, идеального мира, какой себе рисует Штайнер, есть нечто общее с Зеефондом. В этом смысле Штайнер оказался там, где следовало. В городе Дерпте, где родился мой отец, жизнь была куда более зыбкой. Отец вырос в атмосфере непредсказуемости: правивший в городе князь принадлежал к тем самодурам, кто, подобно ястребу, который вдруг стремительно падает сверху вниз на облюбованную жертву, способен неожиданно грубо накинуться на человека, уничтожить его.