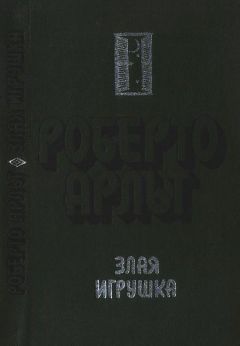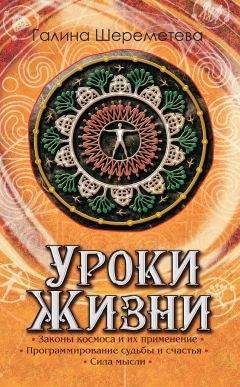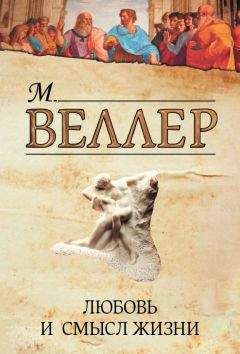Роберто Арльт - Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы
Не отводя остекленевших глаз от розовой материи, он улыбнулся странной, неуверенной улыбкой человека, очнувшегося от кошмара.
— Спасибо, Сильвио, — сказал он, все так же улыбаясь понемногу оттаивая, уверовав в неожиданное чудо спасения.
— Ну, рассказывай!
— Вот. Я шел но улице. Никого. Сворачиваю на Южную и вижу: у фонаря — полицейский. Я встал, а он кричит: «Что несете?» Я ничего не ответил, бросился, как сумасшедший. Он за мной, но не догнал, из-за плаща… стал отставать, и вдруг еще один, на лошади… и — свисток, тот засвистел в свисток. Я поднажал, и вот…
— Видишь… Все потому, что не оставили книги у Лусьо!.. «Сцапают!» «Сами ночуйте в клетке!» А где книги? Ты их не выронил?
— Там, в коридоре.
Маме пришлось объяснить все так:
— Ничего страшного. Просто Энрике играл с ребятами в биллиард и зацепил сукно кием, случайно. Денег не было — ну, хозяин и расшумелся.
Мы собрались у Энрике.
Рыжее солнце прокралось через разбитую форточку в притон старых марионеток.
Энрике задумчиво сидит в углу; глубокая поперечная морщина залегла на лбу. Лусьо курит, устроившись на ворохе грязного белья, и легкое облачко сигаретного дыма заволакивает его бледное лицо. От соседей, из-за уборной, слышна музыка: кто-то наигрывает на пианино вальс.
Я сижу на полу. Безногий солдатик в красно-зеленой форме глядит на меня из помятого картонного дома. Сестры Энрике сварливо ругаются с кем-то на улице.
— Ну, и?..
Энрике поднимает свою благородную голову и смотрит на Лусьо.
— Так что?
Я смотрю на Энрике.
— А ты как думаешь, Сильвио? — снова спрашивает Лусьо.
— Надо выждать, и так наделали глупостей, можно засыпаться.
— Позавчера просто повезло.
— Да, дело ясное, — и Лусьо в сотый раз с удовольствием перечитывает газетную вырезку:
«Сегодня в три часа ночи постовой Мануэль Карлес (участок Авельянеда — Южная Америка) пытался задержать подозрительного прохожего со свертком в руках. В ответ на требование предъявить документы неизвестный бросился бежать, скрывшись на одном из пустырей. 38-й комиссариат полиции принял соответствующие меры».
— Итак, клуб распускается? — спрашивает Энрике.
— Нет, но прекращает свою деятельность на неопределенное время, — отвечает Лусьо. — Просто недальновидно работать под носом у легавых.
— Конечно, глупо.
— А книги?
— Сколько всего?
— Двадцать семь.
— По девять на каждого… не забыть бы поаккуратней свести печать.
— А лампы?
Лусьо тараторит:
— Слушай, о лампочках лучше и не заикайся. Лучше сразу спустить их в сортир.
— Да, верно. Сейчас, пожалуй, рискованно.
Ирсубета молчит.
— Что-то ты невеселый, Энрике.
Странная улыбка кривит его губы; он пожимает плечами и, порывисто выпрямившись, говорит:
— Значит — в кусты, что ж, не каждому дано. А я и один не отступлюсь.
Пробившись в притон старых марионеток, рыжий луч озаряет осунувшееся лицо подростка.
Глава вторая
ТРУДЫ И ДНИ
озяин запросил за квартиру больше, и нам пришлось переехать, на этот раз в огромный, несуразный, зловещего вида дом на улице Куэнка, в дальней части Флоресты[11].
Я перестал видеться с Лусьо и Энрике, и хмурые сумерки нищеты окутали мою жизнь.
Мне было уже пятнадцать лет, и как-то вечером мама сказала:
— Сильвио, надо бы тебе подыскать работу.
Я читал и, оторвавшись от книги, взглянул на нее почти со злобой, подумав: «Работа, опять эта работа», — но ничего не ответил.
Она стояла у окна. Голубоватый свет сумерек лился на ее седеющие волосы, на исчерченную морщинами, сухую кожу лба; она искоса глядела на меня, и я избегал ее взгляда, недовольного и в то же время сочувственного.
Мое молчание было очевидно враждебным, и она повторила:
— Тебе надо найти работу, понимаешь? Учиться ты не захотел, а содержать тебя я не могу. Ты должен устроиться.
Губы ее шевелились едва заметно, тонкие, словно две щепочки. Она куталась в черную шаль, складками спадавшую с узких покатых плеч.
— Надо искать работу, Сильвио.
— Работу, работу! Какую? Господи… Что вы от меня хотите?.. Чтобы я эту работу выдумал? Вы же знаете, я искал…
Мной овладел гнев: меня злило упрямство матери, я ненавидел окружающий меня безразличный мир, подстерегающую на каждом шагу нищету, но самым мучительным было другое — безотчетная уверенность в собственной никчемности.
Но мать настаивала — так, будто ей не было дано иных слов:
— Какую?.. Надо подумать… Какую?
Машинальным движением она расправила складки портьеры и с трудом выговорила:
— В «Ла Пренсе» всегда требуются…
— Да, требуются: посудомойки, чернорабочие… Вы хотите, чтобы я пошел в посудомойки?
— Нет, но ты должен устроиться. У нас совсем нет денег; только чтобы Лила смогла закончить. И всё. А что мне делать дальше?
Приподняв вышитый край подола, она показала стоптанные туфли:
— Посмотри. А Лила, чтобы не тратиться на книги, каждый день ходит в библиотеку. Что мне делать, милый?
Голос ее был взволнованным. Лоб прорезала глубокая складка, губы дрожали.
— Хорошо, мама. Я устроюсь.
Сердце мое разрывалось. Однообразие жизни голубым, мертвенным светом пронизывало душу, молчаливо, как червь, точило ее.
С улицы доносилась грустная детская песенка:
Часовой на башне.
Часовой на башне.
Он одни не спит.
Едва слышно мама шепнула:
— Как бы я хотела, чтобы ты учился.
— Кому это надо.
— Может быть, когда Лила закончит…
В кротком голосе звучала усталая боль. Она присела рядом со швейной машинкой; под тонкой бровью, в глубокой темноте глазницы влажно блеснул взгляд. Она сидела сгорбившейся тенью, и холодная голубизна струилась по гладко зачесанным волосам.
— Как подумаешь… — пробормотала она.
— Что ты, мама?
— Ничего. — И сразу же: — Хочешь, я поговорю с сеньором Найдат? Ты мог бы выучиться на декоратора. Как по-твоему?
— Все равно.
— Ну… они неплохо зарабатывают…
Мне захотелось вскочить, схватить ее за плечи, трясти, кричать:
— Не говорите о деньгах, мама, пожалуйста!.. Замолчите!..
Мы сидели в каком-то тоскливом оцепенении. Дети на улице пели:
Часовой на башне.
Часовой на башне.
Он один но спит.
Я подумал: «Вот она, жизнь. Когда-нибудь и я вырасту и скажу своему сыну: „Надо работать. Я не могу тебя содержать. Такова жизнь“». Внезапная дрожь охватила меня.
Взглянув на мать, на ее маленькое жалкое тело, я испытал невыносимую боль.
Мне показалось, что я вижу ее где-то — вне времени и пространства, на иссохшей серой равнине, под голубым, отливающим сталью небом. Бичуемая тенями, в страшной тоске брела она по обочинам дорог, неся меня, маленького, на руках, согревая у груди, прижимая мое тельце к своему, измученному и жалкому; она побиралась ради меня, и, пока она кормила меня, жгучие слезы опаляли ее губы; голодная, она отдавала мне последний кусок хлеба и, одолеваемая сном, не спала ночами, оберегая мой сон, склонялась надо мной, защищая меня своим маленьким, одетым в лохмотья телом.
Бедная мама! Как бы мне хотелось обнять ее, и чтобы она положила свою седую голову мне на грудь, попросить прощенья за грубые слова — и вдруг, нарушая затянувшееся молчание, я сказал дрожащим от волнения голосом:
— Да, я пойду работать, мама.
— Хорошо, милый, хорошо… — тихо ответила она, и вновь глубокая печаль заставила нас умолкнуть.
За окном, поверх розовеющей в закатном свете стены пела в небе серебряная тетраграмма проводов.
Книжный магазин дона Гаэтано, вернее лавка по покупке и продаже старых книг, — огромное помещение, до потолка набитое книгами, — находился на улице Лавалье, 800.
Помещение это было еще больше и еще мрачнее, чем внутренность дельфийского храма.
Книги были повсюду: на дощатых столах, на прилавках, сваленные в кучи по углам, на полу, в подвале.
Большая вывеска над входом оповещала прохожих о сокровищах волшебной пещеры; на обозрение были выставлены книги, будоражившие воображение толпы, как-то: «История Женевьевы Брабантской» и «Похождения Мусолино». Напротив под беспрестанный звон колокольчика у входа в кинотеатр копошился человеческий муравейник.
За прилавком, рядом с дверью, сидела жена дона Гаэтано, полная бледная шатенка с восхитительным взглядом — сама зеленоглазая жестокость.