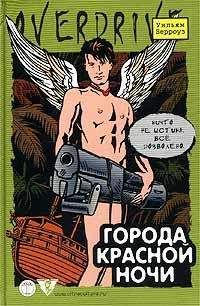Александр Проханов - Кочующая роза
Я был поражен ее слезами, рассказом. Ее внезапной со мной откровенностью. И ее беззащитностью, и новым во мне ощущением: я должен ее оберегать.
— Тогда, в ресторане, — сказала она, — я увидела ваше лицо. Бледное, бледное! Будто вы падали с высоты и вам считанные секунды лететь. Мне показалось, что-то надо сделать сейчас же, а что — неизвестно. Я поняла, что должна подойти, ну хоть руку вам на лоб положить. Хотя, быть может, вы и не нуждались. И ваша бледность — от стакана вина…
— Нет, и то и другое, — сказал я. — И то и другое.
— Когда мы поцеловались на скамейке под деревом, я открыла глаза, а дерево такое малиновое, колоколом, в оборках. Как бабкино платье. Будто она на меня из веток смотрит, как я целуюсь. Сама недоцелована, вот и смотрит. А когда подкатил электровоз, я испугалась: ехать, не ехать? Стоит, грохочет громада, и вы, такой насмешливый, и вдруг это судьба моя стоит и грохочет железом и медью? А потом… в вагоне. Там на баяне играли, я что-то пела. Спохватилась, нет вас. Вышла, а вы висите на поручнях. И вдруг — во мне страх! Вот разожмете руки, и я останусь одна. А вы где-то там — неживой, на насыпи. Закричала, вас вытащила. А вы, оказывается, просто, как мальчишка, шалили…
Она замолчала. Я боялся пошевелиться. Ночь кругом была все та же. Пыльный городок за окном. Но я уже был другой. И она другая. Мы как бы изменились внезапно. Она лежала недвижно, и я чутко охранял ее сон, пока за окнами не зажглась заря над белыми домами и колокольнями. Ее лицо при свете зари было безмятежно чистым.
Наш поезд катил на восток по ночной Транссибирской дороге. Людмила спала, освещаемая верхним синим огнем. Я прижимался к стеклу, овевающему меня сквознячками, ожидая, когда мы проедем маленькую станцию Бам, на которой поезд стоял минуту. От нее, как от крохотной почки, начинала отделяться ветка на север, в Тынду. А оттуда, распихивая мерзлоту и болота бульдозерами и экскаваторами, зарождалась Байкало-Амурская трасса.
Мне хотелось увидеть станцию хоть из окна. Я знал, как строят дороги, видел стройпоезда. Я смотрел на мелькание ночной дальневосточной тайги, а вспоминал Устюрт в Казахстане.
Там на горячую твердую землю, на деревянные позвонки шпал кинули рельсы. Свинтили на скорую руку, поставили кое-где светофоры. Посадили через сто километров начальников несуществующих станций, и они по рации, вытирая пот, льющийся из-под красных фуражек, сигналят друг другу, что живы, что кругом колючая степь, а в шпалах закипает смола, на рельсы больно смотреть, а ночью одиноко и дико, как на новой, невиданной планете.
И вот по этим путям, словно видение, вихляя на стыках, выплывает из-за горизонта состав. Тепловозик тянет пять десятков вагончиков, пестрых, как детские кубики. Оставляет их в пустыне, на обрезках путей. И вагончики вдруг оживают, начинают куриться, дымиться. Полуголые люди пилят, стучат, из фанеры и досок от земли к вагонным дверям возводят высокие крыльцу. На веревках сохнут и выгорают рубахи и юбки. Петух-уроженец Пскова, ошалело орет в пустыню, вскочив на блестящий рельс. Корова костромской породы вздыхает, нюхая черную сухую колючку.
Стройпоезд встал на необжитой земле, будто его высадили на Луну и ему там прокладывать первую железную дорогу.
Я вспоминал Устюрт — известняковый горячий тромб, вбитый между Аралом и Каспием. Вспоминал, как прокалывали этот тромб, пуская по пустыне дорогу, водовод, газопровод, строя гроздья компрессорных станций.
Дорогу завершали. В стройпоезде ходили слухи, что следующий их бросок — в Забайкалье. И я тогда уже знал, что рано или поздно буду ехать в ночном транссибирском вагоне. Но только не знал про Людмилу, про ее гребешок, лежащий на столике, про ее голый локоть, чуть голубеющий в полутьме.
Я работал в стройпоезде на Устюрте, под сжигающим солнцем, среди грохочущих вибраторов. Круглились вокруг потные голые спины. Мне казалось, что в один мой висок вонзили стальную блестящую дратву и в прокол другого виска выпустили ее в беспредельность.
И здесь, на Дальнем Востоке, думал я, прижимаясь к стеклу, все та же работа по стягиванию гигантских пространств. Привариваем их кусок за куском. Насаживаем на валы, заставляя крутиться. И они, как в редукторе, цепляют своими зубьями соседние, еще недвижные земли.
Поезд стал. Проводник прошел по вагону, громко выкрикнув: «Бам!» Снаружи, с высоты невидимой мачты, бил прожектор. В нем моросил дождь. Блестели краны, контуры рельсоукладчиков. Высились штабелями звенья, готовые к отправке на трассу…
Из нашего поезда высыпали люди с чемоданами и рюкзаками. Стояли в дожде, поднимая к прожектору молодые напряженные лица. Мелькал девичий платок, бушлат демобилизованного солдата.
В стороне от путей тянулись дощатые вагончики стройпоезда. И среди них один старинный, с мокрым флагом на крыше.
Я смотрел на этот вагон, когда-то бывший международный и классный. Пассажиры пили в нем душистые вина, курили сигары, отражались в зеркалах. Все они умерли и исчезли. Теперь вагон, как старый эмигрант, ободранный и плешивый, умирает в забайкальской тайге. Без зеркал и ковров, пятнистый, как ящерица. Только под крышей сохранился кусочек мерцающей краски, золотистый, как самаркандский изразец.
— Это что? Где мы стоим? — сонно спросила она.
— Уже едем. Спите, спите, — ответил я, тронув ее тихонько за локоть.
— Шпильки мои все рассыпались, — сказала она и уже спала.
Поезд качнулся, поехал. В дожде исчезли люди, станционные постройки и краны. Мне было тревожно отпускать от себя эти неузнанные молодые судьбы. Дорога растворялась во тьме. Но, перед тем как ей совсем раствориться, она отделила от себя стальную дугу под красным огнем светофора, увела ее в ночь, на север…
глава шестая (из красной тетради). Кочующая роза
Депутат стройпоезда, дорожный мастер Игнат Трофимович и его жена Анна Анкифьевна готовились принять у себя новобрачную, желающую расписаться пару. Они убирали свой старый вагон, в одной половине которого размещался дорожный клуб с рядами обшарпанных стульев, с линялыми кумачами, сохранившимися с прошлой стройки в пустыне, и аккуратно поставленными в углу сигнальными знаками. В другой половине они жили сами, вдвоем, бездетные, много лет.
Новобрачные — маленький румяный паренек, только что уволенный из части в запас, в повой сержантской форме с авиационными погонами и начищенными лычками, и невеста, остроносая, худенькая, в новом цветастом платке… Они, робея, купили в магазине бутылку дешевого красного вина, кулек конфет и отправились к депутатскому вагону под флагом, с одиноко торчащей скворечней, уже много лет не видавшей скворца.
Игнат Трофимович принял их дома, сидя на застеленной кровати с железными сияющими шарами. В выстиранной, колом стоящей у горла рубахе… Седые волосы его были примочены. Анна Анкифьевна, в парадной, слежавшейся по швам шерстяной кофте, встречала гостей, стоя торжественно под древовидной, растущей из кадки розой, занимавшей своей листвой, бутонами и цветами все тесное пространство в вагоне.
— Расписать вас, конечно, можно, — строго сказал Игнат Трофимович, глядя на мнущуюся у порога пару, — хотя положено срок выдерживать. Но мы вас, как говорится, по-дорожному и по-таежному.
— Да, без всяких вас сроков запишем, — говорила Анна Анкифьевна, сглаживая суровость мужа, оглядывая гостей потеплевшими, увлажненными глазами, протягивая Игнату Трофимовичу замусоленную книгу, обклеенную по корешку клеенкой. — Запишем их накрепко, Игнат Трофимович!
— Подай очки, — сказал депутат, кладя на колени книгу. — Где у нас тут значатся браки?..
— Ты их в брак запиши, в свадьбу, а то напутаешь сослепу! — заглядывала через голову мужа Анна Анкифьевна. — Смотри-ка лучше!
— Запишу куда следует! — недовольно оттеснял плечом ее голову Игнат Трофимович. — В последний раз я старушку Ивантееву записывал.
— Хорошая была старушка, — говорила молодым Анна Анкифьевна. — Самая старенькая в нашем поезде. Пенсионерка. Всю жизнь тут отработала. А на пенсию вышла и говорит: «Куда я поеду? Ни родных, никого! Не гоните вы меня с поезда. Буду с вами ездить». Так и ездила. Уже снялись с Казахстану, как она померла. Так ее в открытой степи и схоронили. А коза ее к соседям Калашниковым перешла, по наследству.
— Дай-ка чернильца, Анна Анкифьевна. Плесни в бутылочку кипятку. А то загустели.
Он окунул обмотанную тряпочкой ручку в пузырек с чернилами. Записал имена в графу, отчеркнутую карандашом. И эти два имени слились с именами других, утонули в огромной книге.
— Ну вот! Как представитель местной власти поздравляю вас с браком! — Игнат Трофимович протянул им огромную, почернелую, словно из шпалы вырезанную, ладонь. — Живите, трудитесь, и все такое.
— Чтоб друг друга жалели и уступали, — напутствовала их Анна Анкифьевна. — Ты, милая, уступай. Мало ли где муж задержался! Может, неприятности на работе с начальством. Ну, пришел, посмотрел не так. Ну, слово не так сказал. А ты промолчи, уступи… Дай вам бог хорошей жизни и деток!