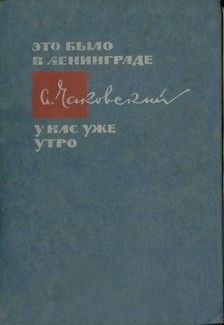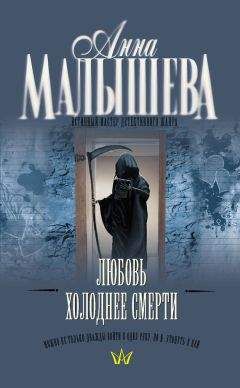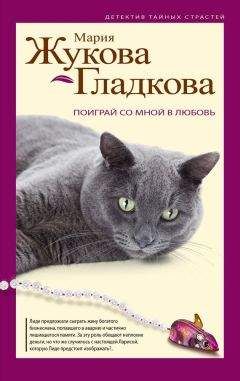Владимир Маканин - Погоня
— Матушка-заступница, пребудь с нами, чистая, — имя твое в наш останний час да вспомнится…
Уже полста поклонов позади, не меньше. Лбы старушек становятся нечувствительными ни к боли, ни к холоду половиц и стучат, как солдатский шаг. Сантехнику жаль их — первой встретит свой останний час, должно быть, Федотьевна. Уж больно слаба. Сантехник посылал ее как-то за пивом, она не осилила и полдороги. За Федотьевной на очереди к останнему часу, скорее всего, Ефимовна. Она, правда, с девятого этажа, она не прописана здесь, а все же без нее будет как-то свободнее.
Особенно жаль, конечно, Федотьевну — баловала она сантехника в детстве, крыжовником пузатым кормила. Да и по родственной линии она наиболее ему близка. Когда он засыпал (в детстве), песни ему пела. И какие песни — в этом деле Федотьевна знала толк. Задолго до рождения сантехника она была известной певичкой, пела для купчишек в «Славянском базаре». Это тебе не «Туркестан». Гуляла на всю Москву.
В дверь стучат. Сантехник недоумевает — старушки нынче вроде бы все в сборе. Субботний день.
И опять стучат.
— Она, — откликается из дальней комнаты Федотьевна. — Должно, это она явилась. Девушка…
— Которая? — спрашивает Ефимовна.
— О Боге вчера со мной говорила. Ласковая такая. Федосьевна, поди отопри.
— Иду.
Федосьевна, наиболее крепкая из них, кряхтя встает с колен, отряхивает сор с черной юбки и идет в прихожую.
— Не перевелись еще молодые-то. Не перевелись… Не тебе, идол, чета, — выговаривает сантехнику Федосьевна, проплывая мимо его комнаты. И на правах родственницы замахивается остреньким кулачком: — У-у, идол!
— Вали открывай, — отмахивается Зуев.
— У-у!
Сантехник не подает виду, но внутренне он настораживается. Девушка — это уже что-то новенькое.
Он приоткрывает свою дверь, чтобы видеть. Входит девица. Действительно молодая. Со скромными глазками. Одета так себе. Крестится.
— Здравствуйте, божьи люди, — произносит девица лампадным голоском.
— Мир тебе, — слабеньким, разрозненным хором отвечают еле дышащая Федотьевна, Федосьевна и Ефимовна.
Светик входит к старушкам в комнату. Становится на колени. И низко кланяется — Божья Матерь, приобретенная старушками совсем недавно, смотрит на Светика, а Светик на нее.
«…На беговую дорожку выходят девушки из Пуэрто-Рико, — объявляет спортивный комментатор. — Эти девушки одни из основных наших соперниц в борьбе за медали…»
Сантехник Зуев внимательно смотрит на телевизионный экран. Он весь поглощен… Он там, среди этих бронзовых тел, — его сопереживание накипает, и наконец вырывается вздох:
— Пуэрториканочку бы!
Стук в дверь. И вновь она приходит. С самого, надо сказать, утра пожаловала.
— Мир вам, — шепчет она сладко и елейно. Она тиха. Не поднимая голубых своих глазок, она проходит в комнату, где иконы. Она опускается на колени меж Федотьевной и Федосьевной, раньше именно здесь мозолила коленки покойная Марковна. Свято место не пустует. — Мир вам, — повторяет она, а сантехник Зуев прислушивается к голосам через нейтральное пространство коридора.
Потом они пьют чай на кухне и говорят о Боге. Долго говорят. Но сантехник Зуев не верит этой девице. Сантехник Зуев в сомнениях… Он заходит на кухню, толчется возле их чаепития, гремит без нужды сковородками и прислушивается.
— …Если истинно уверуешь в Господа, на душе много легче, — говорит девица.
И прячет глаза.
— С молодости-то как хорошо уверовать, — подхватывает Федосьевна, прихлебывая чай. И бросает косой взгляд на шастающего туда-сюда сантехника, который уверовал с молодости лишь в пиво и в команду «Спартак».
— А есть люди — смеются надо мной, — жалуется девица.
— А пусть… Пусть их смеются, — поет Федосьевна.
Ефимовна подпевает:
— Не жалей, голубка. Истинно говорят: не жалей, если рано проснулся и рано уверовал.
— Пусть их смеются. Сердце стерпит.
— Истинно, голубка. Истинно так.
Сантехник Зуев будто бы уходит к себе в комнату. На самом деле он приостановился в коридоре. Стоит у стены. Слушает.
Девица вдруг начинает жаловаться: ей-де вчера страстно захотелось помолиться, она пришла к ним, а дверь заперта. Старушки, видно, ходили в гастроном. За покупками. А слабая Федотьевна лежала в забытьи и не слышала. Так хотелось помолиться. Она, мол, постояла перед запертой дверью и даже заплакала, бедная. Пошла себе улицей — шла и плакала.
Федосьевна тут же снимает с гвоздика и отдает девице запасной ключ от квартиры:
— Милая ты наша. Добрая ты наша — ходи когда хочешь.
— Спасибо.
— Ходи, милая. Когда хочешь… Молись, милая. Очищает молитва-то лучше всяких лекарств.
Эти их добрые слова вдруг потрясают все существо сантехника Зуева: пропишут они ее в квартире, как пить дать пропишут, Сантехник слышит острую и внезапную боль в сердце. Девица хитра. Свято место не пустует. Для того девица и ходит. Потенциальный владелец трехкомнатной квартиры чувствует себя в состоянии, близком к взрывному: не-е-ет, милые мои, не успеете, сегодня же с Федотьевной случится тако-оое волнение!.. Такое, что можно не звонить в неотложку и не отрывать людей попусту. Хватит. Не даст он ей здесь молиться. И молельню устраивать не позволит. Этак они полгорода здесь пропишут.
Молодой сантехник Зуев выходит на улицу. Он в ярости, но шаг его тверд. Прямым ходом он идет к телефонной будке и звонит своим дружкам:
— Завтра «Туркестан»… Как обычно. Угощаю.
— Наконец-то. Жмот ты, Зуев.
— Никакой я не жмот. Вот увидите.
— Жмот, — бранятся друзья, — самый настоящий жмот. Мы уже и лицо и голос Зулейки забыли (певичка в «Туркестане»). С тобой, Зуев, водиться — нужно стальные нервы иметь.
Светик приходит злая, с прикушенными в кровь губами:
— Проворонила!
— Да ну?
— Дура! Дура! — ругает она себя. — Все шло как по маслу. Я уже ключ от их квартиры достала. Одного дня не хватило.
Светик только что от обезумевших старух: там творится что-то ужасное. Старухи бегают. Кудахчут. Ищут икону. «Аспид!» — «Ворюга!» — «Спартаковец несчастный!» — кричат они в праведном гневе. Они заглядывают в сундуки. В темные углы. В уборную. А молодой сантехник Зуев отвечает им через дверь, как всегда, просто и прямо: «Не знаю. Не видел. Не слышал…»
Светик покусывает губы:
— Проворонила…
— Не видать тебе Божьей Матери, Светик, грешна ты слишком, — подсмеивается прозаик.
— Заткнись!
Они подстерегли его в подъезде только к часу ночи — молодой сантехник возвращается из «Туркестана» и мурлычет.
Шагай вперед, мой караван,
Огни мерцают сквозь туман…
Подъезд полуосвещен. То самое, что надо, — сантехник держится рукой за перила и пошатывается. Светик начинает ему по-христиански (не вполне вышла из роли), она говорит, вот, дескать, со мной тоже богомолец, тоже уверовал, души наши страждут, и мы оба смиренно просим тебя сказать — где икона…
Прозаик грубовато перебивает:
— Кому продал?
Сантехник Зуев вместо ответа икает.
— Кому продал Божью Матушку, гнида?
— М-м… Кому хотел — тому продал.
Светик дает Игорю Петровичу знак: работай. Прозаик бьет сантехника в ухо. Сантехник Зуев не слабее прозаика, но, к счастью, обилие принятого на борт алкоголя мешает ему ориентироваться в пространстве и во времени — где он? какие такие богомольцы?.. Светик вновь дает знак: работай. После второго удара молодой сантехник сползает на ступеньки лестницы. Лежит. В подъезде полутемно.
— Кому? — спрашивает Светик. — Кому продал?
— А вот я его сейчас кастрирую, — не шутя говорит прозаик, наклоняясь над павшим.
— Никогда! — начинает орать сантехник. — Никогда не скажу, хоть пытайте! На костре жгите!..
Игорь Петрович и Светик поспешно уходят… Лежит и спьяну орет на весь подъезд. Наверху уже захлопали двери.
— Светик! — окликает Игорь Петрович.
Но она из-за двери визгливо кричит:
— Не лезь сюда! Отстань!
Она заперлась в своей комнате и плачет. Она уже с полчаса плачет, и только-только покажется, что всхлипы сходят на нет, как вновь слышится: «Ну почему?.. почему такая невезуха? за что?» Или: «Я ж так… так старалась. Я ж чуть из кожи своей не вылезла. За что-о-о?» И Светик начинает голосить, не очень громко, но уж очень жалобно.
— Дай мне пореветь! Не лезь сюда! — Она распахнула дверь и, заплаканная, опухшая, грозит ему кулачком. Лицо ее белое, как белая лепешка.
Игорь Петрович уходит на кухню — в конце концов, ей двадцать шесть лет, молодая, почему бы молодой и не пореветь от обиды и от досады. Ночь, но Игорь Петрович тоже отчасти разнервничался, и потому, выпив чаю, он не ложится спать, а зажигает во второй комнате настольную лампу и садится кой-что записать: за эти дни в комиссионке он самолично продал уже две пары джинсов, туфли и свитер: подробности, главное, подробности…