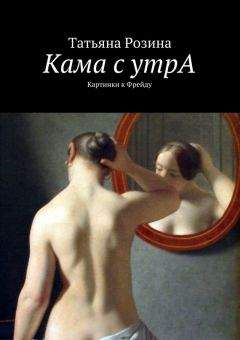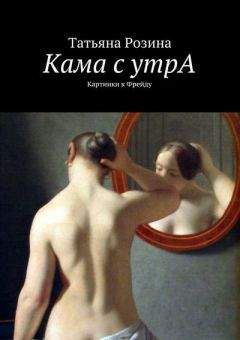Герта Мюллер - Сердце-зверь
Обратно я пошла той же тропкой, которую сама и оставила, — по примятой траве. Лиловые колокольца мальв, наперстянка и императорская корона вонзались в воздух. Полевые вьюнки сладко пахли под вечер — или то был запах моего страха. Каждая травинка норовила уколоть мне икры. Потом впереди запищала молодая курочка, — наверное, заблудилась тут. Испугалась меня, шарахнулась в сторону. Трава была раза в три выше, чем курочка, и смыкалась над ней. Курочка жалобно пищала в этих цветущих дебрях, ей было не выбраться, но она бежала и бежала вперед, в смертельном страхе за свою жизнь. Стрекотали кузнечики, но курочка пищала громче. Вот переполошилась, она же выдаст меня, подумала я. Каждый кустик смотрел мне вслед. Сердце у меня билось словно во всем теле, от висков до ног.
«В домик никто не наведывался», — сказала я на другой день. Мы сидели в садике бодеги. Пиво было зеленое, так как зелеными были бутылки. Голые локти Эдгара, Курта и Георга стерли пыль со стола. И было видно, где раньше лежали их локти. Над головами висели зеленые листья каштана. Желтые пока прятались. Мы пили пиво и молчали.
Над чьим-то виском, возле чьей-то щеки — Эдгара, Курта или Георга — вспыхивали волосы — потому, что на них горело солнце. Или потому, что пиво булькало, когда то один, то другой ставил бутылку на стол. Изредка с каштана падал желтый лист. То один, то другой из нас поднимал глаза, как будто хотел еще раз проследить падение желтого листка. Не дожидаясь, пока упадет следующий, хотя ждать было недолго. Нашим глазам не хватало терпения. Но не листья нас занимали. А только летучие желтые пятна, на которые каждый смотрел, чтобы не пришлось смотреть в лицо остальным.
Стол раскалился, точно утюг. Кожа на лицах разгладилась. Полдень ввалился в бодегу, было пусто. Рабочие на фабриках трудились над своими жестяными баранами и деревянными арбузами. Мы взяли еще пива, чтобы наши руки на столе разделяло еще больше бутылок.
Георг опустил голову, и у него появился второй подбородок. Георг чуть слышно пропел:
Канарейка желтая,
Желтая, как желток,
Мягкие перышки,
Грустные глаза…
Песня была в стране популярна. Но два месяца тому назад ансамбль, который ее исполнял, бежал за границу, и песня стала запретной. Георг пивом залил песню в своем горле.
Официант стоял поодаль, прислонившись к дереву, прислушивался, позевывал. Желанными гостями мы явно не были. Мы смотрели на засаленную куртку официанта. Эдгар сказал:
— Отцы отлично разбираются во всем, что касается детей. Мой отец сразу сообразил, почему те двое забрали деревянного человечка. Сказал: «У них тоже есть дети, а дети любят игрушки».
Мы не хотели бежать из страны. Ни вплавь через Дунай, ни по воздуху, ни на товарняке — не хотели.
Мы брели по кудлатому парку. Эдгар сказал: «Если бы убрался тот, кто надо, все остальные могли бы оставаться в стране».
Но он и сам в такую возможность не верил. Никто не верил, что тот, кто надо, уйдет. Каждый новый день приносил новые слухи о давних и новых болезнях диктатора. И слухам этим тоже никто не верил. Тем не менее все шепотом, кому-нибудь на ухо, передавали эти слухи. Мы тоже их разносили, словно каждый слух был заражен вирусом смерти, который в конце концов доберется до диктатора. Рак легких, рак гортани, шептали мы, рак кишечника, размягчение мозга, паралич, белокровие.
«Ему опять пришлось уехать», — шептались люди. Во Францию, в Китай, в Бельгию, Англию или Корею, в Ливию или Сирию, в Германию, на Кубу. Каждую поездку диктатора шепчущий неразрывно связывал с мечтой о своем собственном бегстве.
Каждое бегство бросало вызов смерти. Потому и был таким засасывающим этот шепот. Каждый второй побег проваливался — из-за собак и пуль охранников.
Быстрые воды, бегущие по рельсам товарняки, неподвижные поля — все это были зоны смерти. Убирая кукурузу, крестьяне натыкались в полях на трупы, высохшие или раздувшиеся и исклеванные вороньем. Крестьяне рубили кукурузу, а трупы обходили стороной: лежат и пусть себе лежат, лучше бы и не видеть их. Поздней осенью тракторы перепахивали поле.
Страх перед бегством заставлял людей всякую поездку диктатора считать безотлагательным посещением врачей. Воздух Дальнего Востока нужен ему как средство против рака легких, лесные коренья — от рака гортани, горячие обертывания — от рака кишечника, акупунктура — от размягчения мозга, ванны и грязи — от паралича. И только из-за одной болезни ему никуда не надо ездить: кровь младенцев как средство против белокровия он получает на месте, в стране. В родильных домах особыми японскими шприцами кровь выкачивают прямо из мозга новорожденных младенцев.
Слухи о болезнях диктатора чем-то походили на письма, которые Эдгар, Курт, Георг и я получали от наших матерей. Этот шепоток призывал обождать с бегством. Всех бросало в жар от злорадства, хотя никакого зла с диктатором не приключалось. В каждом мозгу маячил его труп, как и своя собственная испорченная жизнь. Все надеялись пережить диктатора.
Я зашла в буфетную и открыла холодильник. Вспыхнул свет — как будто я направила туда луч.
После смерти Лолы никаких языков и почек в холодильнике уже не лежало. Но я их видела и чуяла. И я представила себе прозрачного человека, стоящего перед открытым холодильником. Этот прозрачный болен и, чтобы продлить свои дни, крадет внутренности здоровых животных.
Я увидела зверька его сердца. Внутри лампочки холодильника он сидел. Сгорбленный и унылый. Я захлопнула дверцу. Этот зверек не был краденым. Он конечно его собственный, чей же еще, и он был отвратительнее любых внутренностей любых животных, какие есть на свете.
Девушки ходили по коробчонке, смеялись, ели виноград и хлеб, не зажигая света, хотя уже стемнело. Потом кто-то включил свет, чтобы ложиться спать. Все улеглись. Я погасила свет. Дыхание девушек стало сонным. И мне показалось, будто я вижу их дыхание. И будто не ночь была черной, тихой и теплой, а уснувшее дыхание.
Я лежала, ничем не укрытая, и смотрела на белые покрывала на кроватях. Как же надо жить, подумала я, чтобы жизнь совпадала с тем, что о ней думают. Как удается вещам, потерянным на улице, никому не бросаться в глаза, хотя кто-то ведь эти вещи потерял.
Потом умирал мой отец. Печень у него от пьянства стала огромной, как у откормленного гуся, — так врач сказал. В стеклянном шкафчике, совсем близко от его лица, лежали щипцы и ножницы. Я сказала:
— Огромная печень, великая печень, как песни в честь вождя.
Врач прижал палец к губам. Он подумал, это я про диктатора, но я-то имела в виду фюрера. Не отнимая пальца от губ, врач сказал:
— Случай безнадежный.
Он-то имел в виду отца, а я подумала, это он о диктаторе.
Отца выписали из больницы умирать дома. Он улыбался до ушей, хотя от лица один нос остался, так он исхудал. Какая глупость — он радовался.
— Врач никудышный, — сказал он. — Палата паршивая, кровать жесткая, в подушке вместо пера какое-то настриженное тряпье. Поэтому дела мои идут плоховато.
Часы болтались у него на запястье. Беззубые десны одрябли. Вставные челюсти он сунул в карман пиджака, он уже не мог их надеть. Отец был тощий как жердь. Только печень у него раздобрела, да еще глаза и нос стали больше. Нос был точно клюв, гусиный клюв.
— Идем в другую больницу, — сказал отец.
Я несла его чемоданчик.
— Там врачи хорошие, — сказал отец.
На углу ветер взлохматил нам волосы, мы посмотрели друг на друга. Отец воспользовался случаем и заявил:
— Перво-наперво мне надо к парикмахеру.
Какой же он был глупый, если за три дня до смерти для него так много значил парикмахер. Какие же глупые были мы оба, если он глянул на свои болтающиеся часы, а я кивнула. Если чуть позже он мог смирно сидеть в кресле у парикмахера, а я смирно стоять рядом. И как же мы, за три дня до его смерти, разорвали уже все нити, связывавшие нас, если ни отец, ни я даже глазом не моргнули, когда парикмахер в белом халате захватил ножницами прядь отцовских волос и принялся стричь.
С чемоданчиком отца я пришла в город. На столе лежали часы, вставные челюсти и домашние тапки в белую и коричневую клеточку. Санитар морга обул отца в уличные туфли. Лучше бы все эти вещи положить в гроб, подумала я.
На коричнево-белых домашних тапках сверху коричневый ободок с двумя уголками, вроде воротничка. Между уголками пришиты две коричнево-белые кисточки из шерсти. Отец носит эти тапки давно, ребенок и не помнит других. Отец сует в них ноги, и сразу кажется, что у него тоненькие ножки, не такие, как когда он босиком. Перед сном отец разрешает ребенку погладить кисточки на своих тапках. Наступать на них ногами, даже босиком, ребенку строго запрещено.
Отец сидит на краю кровати, ребенок рядом на полу. Ребенок слушает, как стучит маятник часов на стене, и в такт часам поглаживает кисточки. Мама уже спит. Ребенок поглаживает кисточки и приговаривает: тик-так, тик-так. Отец сверху вдруг наступает правой туфлей на левую. И на ручку ребенка. Очень больно. Ребенок замирает, дух захватило от боли, но он молчит.