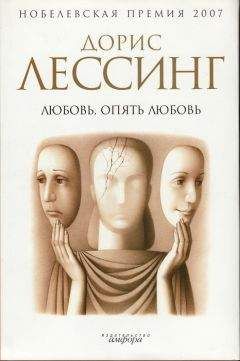Эмиль Ажар - Голубчик
С глубочайшим уважением и т. д.»
Письмо я не отослал. Испугался. Вдруг не получу ответа, а значит, оправдаются худшие мои подозрения: все всё знают и только делают вид полнейшей невинности. Я уж собрался написать самому кардиналу Марти, но тут мне стало совсем страшно: а ну как он врежет мне всю правду-матку, с него станется! Дескать, так и так, недородок ты, предзачаток и мочеполовой выскочка. Четко и ясно, как положено прелату-воину, с присовокуплением благочестивых утешений от имени святой церкви.
Дело в том, что от хронического ожидания и острого сумбура у меня развилась тоска по предметам первой необходимости: красным огнетушителям, лестницам, пылесосам, гаечным ключам, штопорам и солнечным лучам. Таков побочный эффект моего состояния непроявленной, недодержанной пленки. А еще, как заметил читатель, мне не хватает вех и указателей.
Опустив адресованное Ассоциации врачей письмо в корзинку, я подумал: не написать ли еще и в Лигу защиты прав человека? То-то был бы удачный ход, сразу запечатлеешься. А если вдобавок с извещением о вручении, так и вещественное доказательство получишь!
Я уже потянулся к ручке, но тут вдруг уровень жизни французов подскочил мне в утешение на десять процентов по отношению к историческому прошлому и на семь — по отношению к номинальному доходу. Сорвавшись с радиоуст, эти проценты запали мне в душу. Цифры — вещь неопровержимая. А я очень впечатлителен и почувствовал резкое улучшение жизни — на десять процентов и на семь. Я выглянул в окно: прохожие на улице явно приободрились. В приливе благосостояния я подхватил Голубчика и, напевая, затанцевал с ним в паре. Десять и семь процентов — колоссальный прирост. Коммунисты небось рвут на себе волосы. Никогда не любил коммунистов. Я за свободу.
Пора, однако, кончать с этим затянувшимся узлом повествования, а то как бы не порвалась пить. Сослуживцы знают, что у меня есть только удав. И дают советы кто во что горазд. Одна дама из отдела документации даже предложила мне записаться в клуб дружеских встреч. Она сама ходит туда два раза в неделю, как она выразилась, на «грубовую терапию».
— Каждый рассказывает о своих проблемах, раскрепощается, мы их обсуждаем все вместе и стараемся не то чтобы разрешить — общества без проблем не бывает, — но научиться жить с ними, терпеть их, встречать, если хотите, с улыбкой. Словом, абстрагироваться.
Не представляю, как Голубчик мог бы абстрагироваться от своей проблемы, но я сказал, что подумаю.
А этот проклятущий уборщик надоел мне больше всех, я то и дело натыкался в коридоре и на лестнице на его плакатные усищи — дорогу французскому пролетарию! Он ничего не говорит, но его намекающе-призывный взгляд красноречивее всяких слов. А того не понимает, что сегодня двадцатипятилетний парень с закидонами в духе «старой доброй Франции» просто смешон. Клетчатая клеенка, дешевое красное вино, вельветовая куртка и подпольная типография — это вчерашний день, сегодня в «Самаритен»[6] все для всех. Самодельные бомбы никому не нужны.
И, черт побери, я невольно поддаюсь его взгляду. Черные глазищи так тебя и пронзают. Не знай я, что у него карманы полны политической дребедени, я бы ему поверил. Кретины всегда пышут несокрушимой надеждой. Наконец однажды я не выдержал:
— Послушайте, хватит, меня не убедишь, можешь не стараться.
— Я же ничего не сказал.
— Это все равно. Пойми, у вас ничего не выйдет. Нужна биологическая мутация. А от линьки никакого толку, все остается по-прежнему и даже становится прочнее.
— А как насчет Лурда[7] Не пробовал?
Я оторопел. Откуда он знает?
Действительно, пробовал. Как-то в пятницу мы с удавом отправились в Лурд. Голубчик ехал в специальной коробке с дырками, чтобы было чем дышать, а там, на месте, я обмотал его вокруг пояса под пальто. Мы пробыли в гроте целый час, потом я снял номер в гостинице, разложил Голубчика на кровати и стал ждать. И ничего. Как обычно, он свернулся узлами и кольцами. Я подождал часок-другой, сделав скидку на его размеры. И опять ничего, ни намека на желаемый результат. Голубчик как Голубчик, все до последней чешуйки на месте, удавом был — удавом и остался. Даже полинять лишний раз не сподобился. Я ничего не говорю — может, для нормальных случаев Лурд эффективен, для всяких там калек, паралитиков и прочих отклонений, узаконенных Ассоциацией врачей и соцобеспечением. Ясно одно: против природы он не помогает.
Разумеется, уборщику я ничего этого рассказывать не стал. Люди вроде него не верят, что нет пределов невозможного. Не удивлюсь, если он в невозможное вообще не верит.
— В активные действия ты не веришь, так, может, веришь в чудеса? — спросил он.
— Мои убеждения вас не касаются, — сказал я с достоинством. — Мне даром не нужен ваш Китай. У них там нет свободы.
Тут он побелел. Наверно, я угодил ему по больному месту. И процедил сквозь зубы:
— Держите меня! Это он-то… Он будет толковать о свободе. Ну, я молчу!
Не договорив, уборщик пошел своей дорогой. Я же вернулся домой и очень долго и беспричинно комплексовал. А комплекс неопределенной неполноценности есть наиболее глубокое, основательное и единственно реальное ощущение, доступное несовершеннорожденным. Ибо он коренится в самой сути дела.
* * *К сведению грамотных любителей, все еще сомневающихся, стоит ли заводить удава, сообщаю: проблемы некоммуникабельности у нас с Голубчиком не существует. Когда мы вместе, нам нет нужды лгать или выяснять отношения.
Наше молчание означает счастье. Ведь настоящее, полное, непритворное взаимопонимание и выражается только молчанием. Ну а тем, у кого не столь высокие запросы, кто жаждет получить отклик извне в форме устного диалога, советую обратиться к господину Паризи, улица Подкидышей, 20-бис, четвертый этаж, налево.
Четыре года назад я сам обратился к его услугам, случилось это еще до откровения, то есть до того, как в мою жизнь вошел Голубчик. Вернее, он у меня уже был, но не занимал такого места. К тому времени я уже обзавелся двухкомнатушкой и устроился в ней со всей мебелью и прочими вещами, они для меня все равно что родня. Особенно мне симпатично кресло: вальяжная особа в английском твиде непринужденно покуривает трубочку и похожа на путешественника только что из дальних краев, которому есть что порассказать. Я всегда выбирал кресла английского происхождения. Англичане — заядлые землепроходцы. Большое удовольствие посидеть напротив кресла на кровати и выпить чашечку кофе, наслаждаясь приятным обществом. Кресло — это нечто уютное, покойное, чуждое суеты. Недурна и кровать: если потесниться, на ней хватит места для двоих.
Выбор кровати всегда давался мне с трудом. Узкие односпальные, грубо говоря, плюют вам в душу, сводят на нет все усилия вашего воображения. Односпальная кровать — откровенная, безжалостная единица. «Ты, приятель, безнадежный бобыль, сиди и не рыпайся». Поэтому я предпочитаю двуспальные, они открыты в будущее, но тут дилемма поворачивается другой стороной. К слову сказать, все дилеммы имеют пакостный характер, мне, например, ни одной приличной не попадалось. Когда каждый вечер и целую субботу с воскресеньем видишь перед собой двуспальную кровать, одиночество еще нестерпимей, чем в односпальной, — та, по крайней мере, сама служит ему оправданием. Начинаешь понимать всю меру одиночества африканского питона в Большом Париже, и эта мера все растет и растет. Один в двуспальной кровати, хоть и обвитый удавом, ты обречен на комплекс неполноценности, пусть даже с улицы доносятся успокоительные сирены полицейских и пожарных машин, карет «скорой» и «неотложной помощи», создающие иллюзию, будто о тебе кто-то заботится. Одинокий человек, затерянный под крышами Парижа, это, что называется, социальное обесцвечение. Бывало, если становилось совсем невмоготу, я вставал, одевался, вдевал руки в рукава закадычного пальто и выходил побродить по улицам, выискивая влюбленные парочки в подворотнях. Монпарнасскую башню тогда еще не построили.
В конце концов я купил двуспальною, имея в виду мадемуазель Дрейфус.
Собственно говоря, живительная идея была не моя, меня натолкнуло на нее французское правительство, которое в то время много говорило о «культурном оживлении». Со всех сторон только и слышно было: «возрождение», «оживление»; повсюду создавались «очаги культурной жизни». Это и подсказало мне мысль заставить предметы обихода, мебель и самого Голубчика культурно заговорить человеческим голосом.
Случалось мне, конечно, и раньше, вернувшись с работы, вслух обратиться к креслу, кофейнику или трубке, но так делают многие, просто для поддержания душевного равновесия. Можно взывать к вселенной, к мировому эфиру или к домашним тапочкам — кому что нравится, — но ответа не дождешься. Нет даже резонанса, звук тонет в глухоте. А ответ нужен. Нужен диалог. Вот тут-то и приходит черед «культурного оживления».