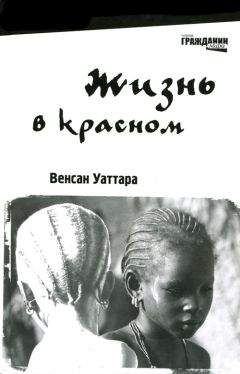Леонард Коэн - Прекрасные неудачники
Самое оригинальное в человеческой природе зачастую бывает самым отвратительным. Поэтому миру людей, неспособных выносить боль существования с тем, что есть, навязывают новые системы. Создателя системы не заботит ничего, кроме ее уникальности. Если бы Гитлер родился в нацистской Германии, он бы не обрадовался ее атмосфере. Если поэт, которого не печатают, находит свой образ в работах другого литератора, он лишается покоя, потому что ему важен не сам образ или его развитие на свободе – ему важно знать, что он не привязан к миру как таковому, он может бежать из данности, причиняющей боль. Возможно, Иисус создал свою систему так, чтобы в руках других она развалилась, – так бывает со всеми великими творцами: они обеспечивают безнадежную власть собственной оригинальности, швыряя свои системы на шлифовальный круг будущего. Это идеи Ф., разумеется. Не думаю, что он в них верил. Хотел бы я знать, почему я его так интересовал. Теперь, глядя в прошлое, я думаю, что он, видимо, готовил меня к чему-то, и прибегал к любому самому дерьмовому методу, чтобы поддерживать во мне истерику. «Истерия – моя классная комната», – сказал как-то Ф. Интересны обстоятельства, при которых было сделано это замечание. Мы были на двойном киносеансе, а потом ели обильную греческую еду в ресторане одного из его друзей. Музыкальный автомат играл печальную песню из афинского хит-парада. На бульваре Святого Лаврентия шел снег, и два-три посетителя, остававшихся в заведении, глядели на улицу. Ф. без всякого интереса поедал черные оливки. Пара официантов пили кофе, а потом начали поднимать стулья, как всегда, оставляя наш стол напоследок. Если в мире и было хоть одно абсолютно ненапряжное место, то мы сидели в нем. Ф. зевал и играл с оливковыми косточками. Он высказал свое замечание совершенно неожиданно, и я был готов его убить. Когда мы шли сквозь радужную дымку неонового снега, он сунул мне в руку небольшую книжицу.
– Я это получил за оральную любезность, которую как-то оказал другу-ресторатору. Это молитвенник. Твоя нужда больше моей.
– Ты мерзкий лгун! – заорал я, когда мы дошли до фонаря, и я прочитал надпись на обложке:"». – Это англо-греческий разговорник, отвратительно напечатанный в Салониках!
– Молитва есть перевод. Человек переводит себя в ребенка, умоляя обо всем, что только бывает на свете, на языке, которым едва владеет. Изучи эту книгу.
– И английский здесь ужасен. Ф., ты меня нарочно мучаешь.
– Ах, – сказал он, беспечно принюхавшись к ночи, – ах, в Индии скоро Рождество. Семьи собираются вокруг рождественского карри, поют гимны перед пылающим святочным трупом, дети ждут колокольчиков Бхагавад-Санты.
– Тебе бы только все обосрать, да?
– Изучи книгу. Выуди из нее молитвы и наставления. Она научит тебя дышать.
– Фффуу. Фффуу.
– Нет, так неправильно.
19.
А теперь Эдит пора бежать, бежать меж старых канадских деревьев. Но где же сегодня голуби? Где улыбающаяся светящаяся рыба? Зачем затаились тайники? Где сегодня Благодать? Почему Историю не угостили конфеткой? Где католическая музыка?
– Помогите!
Эдит бежала через лес, тринадцатилетняя, мужчины – за ней. На ней было платье, сшитое из мучных мешков. Одна мучная компания паковала свой продукт в мешки, разукрашенные цветочками. Тринадцатилетняя девочка мчится сквозь сосновую хвою. Видели такое когда-нибудь? Следуй за юным, юным ее задом, Вечный Мозговой Хуй. Эдит рассказала мне эту историю или ее часть спустя годы, и, каюсь, с тех пор я носился по лесу за ее маленьким телом. Вот он я, книжный червь, одичавший от непонятного горя, неотступный шпик, следующий за тенями гонады. Эдит, прости меня, я всегда еб тринадцатилетнюю жертву. «Прости себя», – говорил Ф. У тринадцатилетних восхитительная кожа. Какая пища, кроме бренди, хороша после тринадцати лет на свете? Китайцы едят тухлые яйца, но ничего хорошего в этом нет. О Катрин Текаквита, пошли мне сегодня тринадцатилетнюю! Я не исцелен. Я никогда не исцелюсь. Я не хочу писать эту Историю. Я не хочу с Тобой спариваться. Не хочу быть поверхностным, как Ф. Не хочу быть главным канадским специалистом по А. Не хочу новый желтый стол. Не желаю астрального знания. Не желаю Телефонного Танца. Не желаю превозмочь Мор. Я хочу, чтобы в жизни моей были тринадцатилетние. Библейскому Царю Давиду одна согревала смертное ложе[55]. Почему бы нам не сравнивать себя с блистательными людьми? Еще, еще, еще, о, я хочу, чтобы меня заманили в тринадцатилетнюю жизнь. Я знаю, я знаю про войну и про бизнес. Я в курсе насчет дерьма. Тринадцатилетнее электричество так сладко сосать, а я нежен, как колибри (или позволь мне быть таким). Разве нет колибри в душе моей? Есть же что-то непреходящее и невыразимо светлое в моей страсти, парящей над юной влажной щелью в мазке светловолосого воздуха? О, приидите, отважные, в моем касании ничего нет от царя Мидаса[56], ничего не обращаю я в деньги. Я просто легко касаюсь ваших отчаявшихся сосков, что уходят от меня, врастая в проблемы бизнеса. Ничего не изменится, пока я плыву и сглатываю под первым лифчиком.
– Помогите!
За Эдит гнались четверо. Будь проклят каждый. Не могу их винить. За ними была деревня, полная семей и дел. Эти мужчины годами наблюдали за ней. Школьные учебники Французской Канады не поощряют уважения к индейцам. Некая часть канадской католической памяти не уверена в победе Церкви над Шаманом. Неудивительно, что леса Квебека изувечили и продали Америке. Волшебные деревья спилили распятиями. Прикончили побеги. Горькая радость – росток тринадцатилетней пизды. О Язык Нации! Почему ты не говоришь за себя? Разве не видишь, что стоит за всеми этими рекламами для сопляков? Разве одни деньги? Что на самом деле означает «привлекать подростковую аудиторию»? А? Взгляни на все эти тринадцатилетние ноги, вытянутые на полу перед телевизорами. Неужели для того лишь, чтобы продать им овсянку и косметику? Мэдисон-авеню забита колибри, желающими пить из маленьких, почти безволосых трещин. Заманивайте, заманивайте их, приспособленцы в костюмах, авторы коммерческих рифмовок. Умирающая Америка хочет, чтобы тринадцатилетняя Абишаг согрела ей постель. Бреющиеся мужчины хотят насиловать маленьких девочек, но вместо этого продают им туфли на шпильках. Сексуальный хит-парад сочиняют бреющиеся отцы. О страдающие страстью по ребенку конторы делового мира, я повсюду чувствую боль вашей посиневшей мошонки! На заднем сиденье припаркованной машины возлежит тринадцатилетняя блондинка, нейлоновыми пальцами одной ноги играет с пепельницей на подлокотнике, другая нога – на роскошном коврике, ямочки на щеках и слабый намек на невинный прыщик, и пояс с подвязками пристойно неудобен: вдалеке бродят луна и несколько полицейских мигалок: ее бетховенские штанишки влажны после выпускного. Она одна во всем мире считает еблю священной, грязной и прекрасной. А это кто пробирается по кустам? Это ее учитель химии, что весь вечер улыбался, глядя, как она танцует с главным школьным футболистом, потому что грезит она, лежа на сиденье его машины. «Сострадание возникает в одиночестве», – говаривал Ф. Множество долгих ночей заставили меня понять, что учитель химии – не просто подлец. Он искренне любит молодость. Реклама обхаживает прелестные вещи. Никто не желает превращать жизнь в преисподнюю. В самом навязчивом рекламном ролике живет колибри, томимый жаждой и отсутствием любви. Ф. не хотел бы, чтобы я навеки возненавидел мужчин, бежавших за Эдит.
– Ы-ы. Ы-ы. Ы-ыу. О, о!
Они поймали ее в каменоломне или в заброшенном карьере, в каком-то очень неорганическом и жестком месте, что косвенно обслуживало интересы США. Эдит, прелестная тринадцатилетняя сирота-индеанка, жила с приемными родителями-индейцами, поскольку ее отец и мать погибли под лавиной. Одноклассники обижали ее, не считая христианкой. Она рассказывала мне, что даже в тринадцать лет у нее были причудливо длинные соски. Может, эта информация просочилась из школьной душевой. Может, это был подпольный слух, распаливший корень целого городка. Может, бизнес и религия продолжали функционировать, как обычно, но каждый отдельный человек был втайне одержим этим известием о сосках. Мечтой о сосках перепутана литургия. Группа бастующих у местной асбестовой фабрики не может полностью отдаться Труду. Дракам и слезоточивому газу местной полиции чего-то недостает, ибо все мысли – о необычном соске. Повседневность не может вынести этого фантастического вторжения. Соски Эдит – абсолютная жемчужина, раздражающая работоспособную монотонную протоплазму деревенского существования. Кто отследит тонкую механику Коллективной Воли, к которой причастны мы все? Мне кажется, деревня в некотором роде отрядила эту четверку в лес вслед за Эдит. «Поймайте Эдит! – скомандовала Коллективная Воля. – Вырвите ее волшебные соски из Нашего Рассудка!»