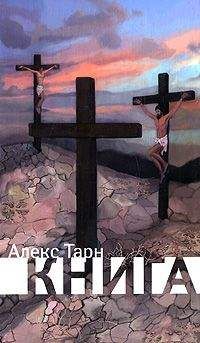Алекс Тарн - Дор
Наверху светало; пароход стоял на стамбульском рейде, огромный город, как удав — чешуей, мерцал огоньками по обеим сторонам пролива. Дышалось легко, свободно и так вкусно, что хотелось еще и еще, и славно было сознавать, что этого необыкновенного воздуха хватит на всю жизнь, то есть навсегда. Подошел давешний турок.
— Мадемуазель Рашель?
Еще одно имя. Теперь у нее много всего, даже имен. Как воздуха — сколько хочешь, навсегда.
— Доброе утро, господин Молхо, — улыбнулась Раяша. — Вам скоро сходить?
Он развел руками.
— Вот-вот совсем рассветет, и начнут подходить лодки. Я опасался, что не успею попрощаться до того, как вы проснетесь.
Немолодой, интеллигентного вида турок сел на пароход в Варне, и Раяша, присмотревшись, моментально приспособила попутчика к совершенствованию своего не слишком уверенного французского. Господин Молхо облокотился на борт рядом с нею.
— Какой большой город…
— Стамбул? О, да. После него Яффа покажется вам деревушкой.
— Не беда, — улыбнулась Раяша. — Я выросла в небольшом городке.
— Да, я помню, Полтава… — кивнул турок и неловко зашевелил плечами, словно запихивая назад, за невидимый шлагбаум, так и не произнесенное продолжение фразы. — Полтава… Гм…
— Мне кажется, вы что-то хотите сказать, — помогла своему собеседнику Раяша. — Смелее, господин Молхо, девушки из Полтавы не кусают почтенных попутчиков.
— Гм… да… — турок слегка покраснел. — Конечно, это не мое дело, мадемуазель, но все же, если позволите… Я никак не возьму в толк, зачем вы с сестрой решили заехать в Палестину. Что барышни из такой добропорядочной семьи могут искать в столь глубокой и дикой провинции, да еще и по дороге в Италию? Я мысленно ставлю себя на место вашего отца и не могу не устрашиться возможных последствий этой… гм… да…
— Авантюры?.. — подсказала Раяша, глядя на остроконечные минареты, торчащие из города, как карандаши из стакана.
— Гм… да, если хотите. Авантюры. Вы ведь намереваетесь обучаться искусству и философии в Риме и в Милане. Это весьма похвально и разумно. Я сам в свое время получил образование в Берне и видел там немало российских студентов. Но какое, помилуйте, отношение к Милану и Риму имеет нищая Яффа? Мне доводилось бывать в тех местах по долгу службы, и, поверьте, решительно ничего приятного там нет. Я даже сильно сомневаюсь, что ваш прелестный носик сможет справиться с тамошней мерзкой… гм… да… — он поискал более приличное в разговоре с барышней слово, — …с тамошним ужасным ароматом.
Раяша возмущенно выпрямилась.
— Мой прелестный носик, господин Молхо, отнюдь не столь чувствителен, как это может показаться на первый взгляд.
— Ну вот, вы все-таки обиделись, — расстроился турок. — Поверьте, я не хотел…
— Как вы не понимаете, что времена уже совсем не те, что прежде? — перебила его девушка. — Посмотрите, как волшебно изменился мир! Вы действительно, как мой отец: он тоже совершенно не способен осознать эти перемены — настолько они быстры. Взгляните, господин Молхо: вот мы с вами на пароходе. Путешествие, на которое раньше требовались недели, теперь продолжается всего несколько дней. Паровые машины, электричество, телефоны, синематограф… люди уже начинают летать на аэропланах — мне брат рассказывал, он видел своими глазами. Еще немного, и все пойдет по-другому. И не только в науках, но и в нашей обыденной жизни. Подумайте сами: если человеческий разум способен отправить аэроплан на Луну, то неужели он не сможет устроить такое разумное общество, где разумные люди будут счастливо жить вместе и при этом не ссориться? Конечно, сможет! Жизнь станет совсем-совсем другой, господин Молхо, и это произойдет намного скорее, чем вам кажется. Новый век еще не наступил, но он уже близко, близко!
Пожилой турок выслушал ее горячую тираду внимательно, без улыбки, слегка покачивая головой.
— Новый век уже наступил, — возразил он. — Сейчас тысяча девятьсот девятый год, мадемуазель Рашель. Конец первого десятилетия двадцатого века. И я не уверен, что…
— Да нет же! — воскликнула Раяша, во взволнованной запальчивости едва ли не хватая за рукав своего почтенного собеседника. — Нет же! Это первое десятилетие еще относится к старому веку. Это все еще… как бы это назвать?.. это — накопление, вот! Это просто накопление, когда мир постепенно набирает знания, опыт, желание, силы, когда появляется все больше и больше нового, интересного, полезного. Представьте себе такие огромные весы, две чаши. На одной — все человеческое прошлое — ужасно тяжелое, ужасно… А и в самом деле, это ведь столько лет, даже веков, даже тысячелетий… столько жертв, войн, заблуждений, преступлений, лжи… сколько все это должно весить? — ужас сколько, не правда ли? Подождите, подождите, дайте мне закончить… Зато на другой чаше лежит все то новое, что люди сейчас накапливают, все то, что теперь называется плодами науки и разума. Разума, понимаете?! И вот мы все, всё человечество, постепенно нагружаем на вторую чашу… нагружаем… нагружаем… Смотрите, господин Молхо, она уже зашевелилась, уже пришла в движение… еще немного, и она перевесит, перетянет и одновременно вытащит вверх все наше прошлое, всех людей, всех нас, вот так…
Раяша показала руками и перевела дух.
— И вот тогда… — она слегка задохнулась, но тут же привычно подавила в горле начавшийся было кашель. — Тогда-то и наступит новый век. Новый, прекрасный век, господин Молхо!
Они помолчали: Раяша — в некотором смущении от своей внезапной горячности, господин Молхо — в охватившей его задумчивости.
— Я сейчас вот о чем подумал, мадемуазель Рашель… — произнес наконец турок. — Как странно: совершенно то, о чем вы сейчас говорили, я слышал тридцать пять — сорок лет назад в Берне. Ровно то же самое. Да и образы те же: и про накопление, и про весы, и про разум… Правда, мои тогдашние ровесники собирались положить на нужную чашу весов прежде всего свои жизни. Как я потом узнал, некоторые из них своей цели добились. Нет, не в отношении чаши — чаша, насколько я понимаю, даже не дрогнула — в отношении собственных загубленных судеб. Впрочем, и чужих тоже. Да… Только тогда это называлось…
Он покопался в памяти и выудил, смешно коверкая русские слова: — Нариодна Вулиа…
— Народная Воля, — тихо поправила Раяша.
— Да-да, именно так…
Под ними вдоль борта медленно проплыла длинная четырехвесельная лодка; перевозчик, задрав голову с кормы, высматривал клиентов. Господин Молхо стал прощаться; Раяша торопливо кивала, благодарила за терпение, с которым он столь великодушно принимал ее невыносимый французский; турок, кланяясь, церемонно отрицал очевидное. Оставшись, наконец, одна, она снова облокотилась на борт. Прежнего радостного подъема как не бывало. Вместо него совершенно не к месту припомнились сон и мачеха-габай со своим дурацким попугайным предсказанием, подкрепленным, как это ни печально, реальной слабостью раяшиных легких, которая, впрочем, отнюдь не означала чахотки — особенно сейчас, после профилактических поездок в Крым и многих литров выпитого там чудодейственного, хотя и ужасного на вкус кумыса.
Что, если господин Молхо прав в своей неприятной аналогии? О “Народной воле” Раяша узнала сначала из семейных легенд, а затем и непосредственно из первых уст — от героини этих легенд, Розы Мандельштам, родной раяшиной тети, приехавшей в Россию погостить незадолго до смерти матери. К тому времени бывшей народоволке можно было не опасаться ареста: в розыскных списках полиции экзальтированных желябовских бомбометателей давно уже сменили искушенные эсеровские боевики Азефа и Савинкова.
В девятнадцать лет, то есть в нынешнем раяшином возрасте, тетя, как говорилось тогда, “пошла в народ”. Молодые российские интеллигенты семидесятых годов отчего-то были уверены, что именно там, в глухих деревнях, в хлеву, в поле и на лугу, на печах да полатях, где две трети жизни уходит на круглосуточный тяжкий физический труд, а оставшаяся треть — на бесчувственную зимнюю спячку, что именно там, в скотстве, грязи и навозе, бьют родники чистейшей нравственности и незамутненной культуры.
Самих себя эти мальчики с нежным пушком на скулах и девочки с трогательными завитками на висках полагали нечистым порождением общества, безнадежно погрязшего во лжи и преступлениях. Очистить их от этой мерзости мог лишь Народ. Образ Народа рисовался воображению мальчиков и девочек не слишком конкретно, но разве по-настоящему святые вещи бывают конкретными?
Ответив презрительным молчанием на расспросы домашних о своих дальнейших планах, юная тетя Роза ушла из дому, исчезла в неизвестном направлении, загодя предупредив, что будет рассматривать любые поиски, — хотя бы и без участия полиции — как недопустимое полицейское вмешательство в личную жизнь свободного человека. В небольшой поволжской деревне появление городской барышни сначала восприняли настороженно. Затем, после разъяснений, полученных старостой от волостного начальства, стали скорее презирать, чем побаиваться. А закончилось все тем, что несколько парней заперли девушку на гумне и поочередно насиловали, пока одна из деревенских девок, приревновав, не выгнала ее на большак тумаками, на прощанье пообещав собственноручно выцарапать поганке глаза в случае ее повторного появления.