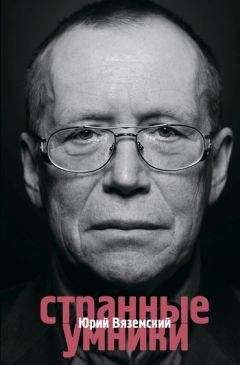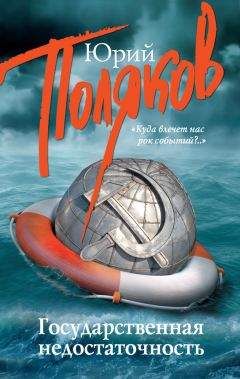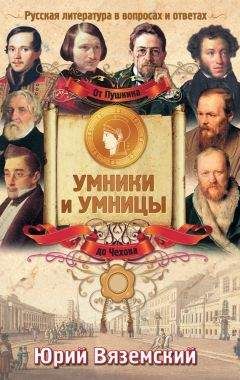Юрий Вяземский - Странные умники
Когда Шуту рассказали о поступке Учителя, Шут заметил: «Он выжил из ума», – и положил правую руку на кулак левой, прижатый к груди (т. 14, с. 313)».
Этот самый Учитель играет в нашей истории одну из ключевых ролей, и в то же время знаем мы о нем явно недостаточно. Например, нам не известно ни имя его, ни какой предмет он преподавал. В «Дневнике Шута» на этот счет ни слова.[14]
Но вот что пишет сам Шут:
«Учитель был из тех, доброта и ум которых дают больше, чем любая наука» (т. 15, с. 337).
Не ведаем мы и его точного возраста. Шут в своем «Дневнике» пишет, что «Учителю было еще долго до того, когда не колеблются» (т. 13, с. 311).[15]
Что бы он, однако, ни преподавал и какое бы имя ни носил, очевидно, что Шуту этот человек был далеко не безразличен. Более того, возьмем на себя смелость утверждать, что отношения между Шутом и Учителем – до кульминационного момента, который будет описан ниже, – сложились чрезвычайные. Шут не только тянулся к Учителю, но и не боялся показать ему это. Для сравнения вспомните «друзей» Шута, за которыми он лишь «наблюдал из укрытия».
С Учителем Шут позволял себе идти намного дальше. Так, в «Дневнике» мы читаем:
«Сегодня Шут провожал Учителя до дому, и Учитель вдруг открыл ему глаза на биологичку. Шут всегда считал ее бесчувственной самодуркой, а она оказалась глубоко несчастной женщиной, потерявшей мужа и сына, погибших друг за другом… Шут был подобен человеку, который, увидев черепаху, спросил: „У всех существ кости покрыты кожей. Почему же у этого существа кожа покрыта костями?“ Учитель в ответ снял сандалию и накрыл им черепаху, открыв глупому истину…
Надо будет при случае поцеловать биологичке руку» (т. 14, с. 331).
Шут, оказывается, даже бывал у Учителя в квартире, причем зашел туда по приглашению; ни Косте Малышеву, ни Сергею Жуковину Шут ни за что не позволил бы пригласить себя.
В «Дневнике Шута» в витиеватых выражениях, ему присущих, мы читаем о том, что однажды Шут до позднего вечера просидел у Учителя, беседуя с ним «об абстрактном и отвлеченном» и слушая музыку; что, выйдя от него, чувствовал себя «не переродившись перерожденным», а вернувшись домой, «одетый в оленью шкуру, подпоясанный веревкой, играл на струнах и пел: „О, какие высокие, высокие, далекие, вечные горы“ (т. 15, с. 345–348).[16]
Из всего этого заключаем, что Учитель как человек был крайне интересен Шуту, что общение с ним оказывало на Шута сильное духовное воздействие и что культура и интеллект Учителя казались Шуту намного превосходящими культуру и интеллект прочих окружающих.
Иначе как мы объясним себе такую запись, казалось бы, абсолютно для Шута неприемлемую и противоречащую Системе:
«Учитель – именно тот, которому просто невозможно не сделать поклона у дверей и стен.[17] Общаясь с ним, Шут иногда забывает о том, что он – Шут (!)» (т. 15, с. 358).
Глава IX
ЛЮБОВЬ ШУТА
«Послушай, Валя, неужели ты никогда не был влюблен?» – спросил у Шута кто-то из родственников. «Я же вас не спрашиваю, какими болезнями вы болели в детстве», – ответил Шут (т. 17, с. 406).
Нам-то доподлинно известно, что Шут был влюблен. Иначе откуда бы в его «Дневнике» взяться, скажем, таким стихам:
«Девица Бо И
Красой поражала чудесной,
Ей не было равных
В любом уголке поднебесья.
Как полководец,
Владела искусством сраженья,
Вела наступленье
И смело брала в окруженье.
Красавицей класса
Все дружно ее называли,
Прекрасные очи
Сиянье луны затмевали.
Бесчувственный камень
И тот бы склонился пред нею, —
И дрогнул наш Шут,
И попался, благоговея»
Известны нам также имя и фамилия «девицы Бо И» – Ира Богданова. Девушкой она действительно была симпатичной, не красавицей, правда, но симпатичной – точно. Впрочем, не ее миловидность превратила ее в «первую девчонку» класса, а то, как она держала себя. В отличие от большинства своих одноклассниц, по-детски еще угловатых, стеснявшихся своей угловатости и смотревших на мир пугливым глазом новорожденного жеребенка, в ней, в Ире, уже проснулась женщина, привлекательная и самолюбивая. И хоть лет ей было всего пятнадцать – или, как выразился Шут, «только-только достаточно, чтобы сделать прическу», – у нее уже были взрослые поклонники, лет на пять, а то и на шесть старше ее, которые водили ее в студенческие компании, в кафе и театры, на просмотры модных зарубежных фильмов.
Один кавалер – какой-то подающий надежды спортсмен или сын «накрывающих повозку зонтом»[18] – даже заезжал за ней в школу на белых «Жигулях», и уже одно это обстоятельство делало Иру, что называется, недосягаемой для своих сверстниц-девятиклассниц.
Впрочем, к чести ее будет сказано, с поклонниками своими она вела себя на редкость разумно, ничего лишнего им не позволяла, принимала их услуги и ухаживания, но была независима и строга и, чуть что, расставалась с ними не моргнув глазом.
Стоит ли говорить, что все мальчишки были тайно влюблены в нее. Всем она снилась по ночам в самых дерзновенных мальчишеских снах, все замирали в сладостной тоске при звуке Ириного голоса, к ним обращенного, все украдкой поглядывали на нее на уроках и тому подобное, наверняка, хорошо знакомое читателю.
Все, кроме Шута. По крайней мере, в своем «Дневнике» Шут отмечает, что до определенного момента он относился к Ире как к «оболочке из кожи, налитой кровью и набитой костями».[19]
А вот, читатель, история любви Шута в том виде, в котором она дается в «Дневнике»; Шут называет ее «лисьим наваждением».
Однажды, когда Шут уходил из школы, к нему вдруг подошла Ира и сказала, премило улыбаясь:
– Валенька, понеси-ка мой портфельчик.
Шут остановился, нахмурил брови и, внимательно оглядев Иру с головы до ног, точно впервые ее видел, произнес:
– Откуда ты такая пришла, красавица?
– А ты проводи меня до дому. Глядишь, и узнаешь, откуда я, такая, пришла, – ничуть не смутившись, ответила Ира.
– Я ожидал ответа, подобного скачущей лошади, а получил ответ, подобный ползущей черепахе, – проворчал себе под нос Шут и, пожав плечами, пошел своей дорогой.
А так как диалог этот состоялся на глазах у Ириных подружек, вслед за ней вышедших на школьный двор, то Ира возьми и объяви этим зрителям: «Ничего, девочки! Последнее слово будет за мной».
Девушкой она была далеко не глупой, умела трезво оценивать свои силы, а потому, хоть и горела желанием поскорее выполнить обещанное, но подавила в себе нетерпение. Стала нежна и ласкова с Шутом, искала с ним контакта, но не выглядела нарочитой, сносила его угрюмые взгляды и колкие реплики, но не заискивала и не теряла достоинства. Естественна была и терпелива и как-то особенно одухотворена. И вот эдак, постепенно, осторожно, но, неуклонно опутывая Шута ласковыми чарами, добилась своего: Шут нарушил правила игры, в которую играл с самого своего рождения, «раскрылся» перед противником, потерял устойчивость боевой стойки и вышел из состояния постоянной боеготовности… Да, влюбился, если так вам будет понятнее!
Уже через неделю он записал в своем «Дневнике»:
«Она была прекрасна, как лотос, розовеющий в каплях росы.
Ласково и еле заметно улыбалась она Шуту, и красота ее милого лица хотела как будто выйти за пределы возможного» (т. 16, с. 362).
А еще через неделю он пригласил ее к себе домой после школы – никто из одноклассников ни разу не был у него дома, – усадил у себя в комнате на диван и целый час пел ей под гитару свои песни, которые никогда никому не пел, в том числе свою любимую. Вот эту:
Снег за полог проник –
Он ворвался, исполненный злобы.
За решеткой окна
Занавески вздымаются вдруг.
Снежный яростен вихрь,
Намело, словно горы, сугробы.
Все укрыл белый снег,
Застонал, закачался бамбук.
Все, что было, напялил
Солдат под холодные латы.
Как и здесь,
На границе бушует метель.
А сынки богачей
Поднимают тяжелые кубки,
И красавицы уголь несут
Для пылающих жаром печей.
Странные вещи стали происходить с Шутом. Сумрачность и настороженность его исчезли: Шут теперь как бы светился изнутри радостью и любовью. Кроме «розовеющего в каплях росы лотоса», он уже никого и ничего не замечал вокруг себя.
Не видел он, что и отношение к нему в классе стало постепенно меняться: сначала все растерялись, но мало-помалу свыклись, оправились от изумления, и кое-кто из самых смелых даже попытался тихонько ущипнуть Шута, так сказать, эксперимента чистого ради. А поскольку на щипки эти Шут никак не прореагировал, то разом осмелели даже самые трусливые и накинулись на Шута оравою.
Толька Барахолкин строил за спиной Шута глупейшие рожи, подмигивал в сторону Иры Богдановой и прикладывал руку к сердцу. Васька Соболев, он же Митрофанушка, отпускал в адрес Шута двусмысленные замечания на уроках, когда учителя сетовали на рассеянность Тряпишникова. Разумовский, то бишь Фамилия, взял за правило хлопать Шута по плечу и с ехидной улыбочкой хвалить его: «Растешь на глазах, Валентин! Истинный покоритель сердец!»