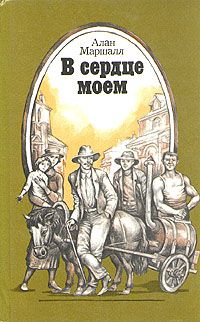Алан Маршалл - Я умею прыгать через лужи. Рассказы. Легенды
Затем она снова повернулась ко мне:
— Завтра ты ляжешь спать, а когда проснешься, твоя ножка будет в премиленьком белом коконе. Правда, это будет красиво? — Потом, обратившись к сиделке, она добавила: — Операция назначена на десять тридцать. Сестра подготовит его.
— Что такое операция? — спросил я Энгуса, когда они ушли.
— Да ничего особенного, просто займутся твоей ногой… подправят ее… В это время ты будешь спать.
Я понял, что он не хочет объяснить мне, в чем дело, и на секунду меня охватил страх.
Однажды отец не стал распрягать молодую лошадь, а просто привязал вожжи к ободу колеса и пошел выпить чашку чая; лошадь, оборвав туго натянутые вожжи, промчалась через ворота, разбила бричку о столб и ускакала. Отец, услышав грохот, выбежал из дома и постоял с минуту, рассматривая обломки, а потом обернулся ко мне (я, разумеется, выскочил вслед за ним) и сказал: «А, наплевать! Пойдем допивать чай».
Когда Энгус запнулся и оборвал свои объяснения, мне почему-то вспомнилось это восклицание отца и сразу стало легче дышать.
— А, наплевать! — сказал я.
— Молодчина, так и надо, — похвалил меня Энгус.
Глава 5
Меня лечил доктор Робертсон — высокий мужчина, всегда одетый по-праздничному.
Всякую одежду я разделял на два вида: праздничную и будничную. Праздничный костюм можно было надевать и в будни, но лишь в особых случаях.
Мой праздничный костюм был из грубой синей саржи — его доставили из магазина в коричневой картонной коробке; он был завернут в целлофан и издавал необычайно приятный запах, свойственный новым вещам.
Но я не любил носить этот костюм, потому что его нельзя было пачкать. Отец тоже не любил свой праздничный костюм.
— Давай-ка снимем эту проклятую штуковину, — говорил он, вернувшись из церкви, куда ходил редко, и то по настоянию матери.
Меня удивляло, что доктор Робертсон выряжался по-праздничному каждый день. Но не только это озадачивало меня; я пересчитал его праздничные костюмы и обнаружил, что у него их четыре. Из этого я сделал вывод, что он, вероятно, человек очень богатый и живет в доме с газоном. Люди, у которых перед домом был разбит газон, а также все, кто разъезжал в шарабане на резиновых шинах или в кабриолете, обязательно были богачами.
Я как-то спросил доктора:
— У вас есть кабриолет?
— Да, — ответил он, — есть.
— На резиновых шинах?
— Да.
После этого мне было трудно с ним разговаривать. Все, кого я знал, были бедные. Богачей я знал только по имени, видел, как они проезжали мимо нашего дома, но они никогда не смотрели на бедных и не разговаривали с ними.
— Едет миссис Карузерс! — кричала моя сестра, и мы все устремлялись к воротам, чтобы посмотреть на коляску, запряженную парой серых лошадей и с кучером на козлах.
Нам казалось, что мимо проехала сама королева.
Я вполне мог представить себе, как доктор Робертсон беседует с миссис Карузерс, но мне трудно было привыкнуть к тому, что он разговаривает со мной.
У него было бледное, не знавшее загара лицо с сизым отливом на гладко выбритых щеках. Мне нравились его глаза — светло-голубые, окруженные морщинками, особенно заметными, когда он смеялся. Его длинные узкие руки пахли мылом, и прикосновение их было прохладно.
Он ощупал мою спину и ноги, спрашивая, не больно ли. Потом выпрямился, посмотрел на меня и сказал сестре:
— Искривление весьма значительное, поражена часть спинных мышц.
Еще раз осмотрев мою ногу, он потрепал меня по волосам и сказал:
— Мы все это скоро выпрямим. — И обратился к сестре: — Необходимо выровнять берцовую кость. — Он взял меня за лодыжку и продолжал: — Эти сухожилия придется укоротить, а стопу поднять. Мы сделаем надрез вот у этого сустава. — Затем он медленно провел пальцем по коже над коленом. — Выравнивать будем здесь.
Это движение его пальцев я запомнил навсегда: он провел линию там, где потом лег рубец.
Утром накануне операции он остановился около моей кровати и сказал сопровождавшей его старшей сестре:
— Мальчик, по-моему, совсем освоился: у него очень веселый вид.
— Да, да, он славный мальчуган, — подхватила сестра и добавила обычным нарочито веселым тоном: — Он даже поет «Брысь, брысь, черный кот!». Не правда ли, Алан?
— Да, — сказал я, как всегда смущаясь от ее приторного голоса.
Доктор с минуту смотрел на меня в раздумье, потом неожиданно нагнулся и откинул одеяло.
— Перевернись на живот, чтобы я мог осмотреть твою спину, — сказал он.
Я перевернулся и почувствовал, как его прохладные руки скользят по моей кривой спине, тщательно ее ощупывая.
— Хорошо, — произнес он, выпрямляясь и придерживая одеяло, чтобы я мог снова лечь на спину.
Когда я повернулся к нему лицом, он взъерошил мне волосы и сказал:
— Завтра мы выпрямим твою ногу. — И с улыбкой, которая показалась мне странной, добавил: — Ты храбрый мальчик.
Я принял эту дань уважения без малейшего чувства гордости, недоумевая, за что он меня похвалил. Мне очень захотелось, чтобы он узнал, какой я замечательный бегун. Я наконец решился сказать ему об этом, но он уже повернулся к Папаше, который, сидя в своей коляске, ухмылялся беззубыми деснами.
Папаша прижился в больнице, как кошка в доме. Это был старик пенсионер с парализованными ногами. Он передвигался по палате и выезжал на веранду в кресле-коляске, к колесам которой были приделаны специальные рычаги. Худыми жилистыми руками он проворно нажимал на рычаги и быстро ездил по палате. Я завидовал ему и в мечтах уже видел, как я ношусь по больнице в таком же кресле, а потом завоевываю первое место в спортивных колясочных гонках и, проезжая по стадиону, кричу: «Дай дорогу!» — как заправский велогонщик.
Во время врачебного обхода Папаша занимал свою излюбленную позицию — у моей кровати. С нетерпением поглядывая на врача, обходившего палату, он сидел, готовый, как только тот остановится перед ним, поразить его сочиненной заранее тирадой. В такую минуту заговаривать с ним было бесполезно — он ничего не слышал. Но в другое время он говорил без умолку.
Он всегда был готов ныть и жаловаться и терпеть не мог ежедневного купанья.
— Эскимосы же не моются, — оправдывался он, — а их и топором не убьешь.
Сестра заставляла его мыться каждый день, а он считал это вредным для своей груди.
— Сестра, — говорил он, — не сажайте вы меня под вашу брызгалку, этак я схвачу воспаление легких.
Когда он закрывал рот, морщины на его лице становились глубокими складками. Его куполообразная голова была покрыта тонкими седыми волосками, такими редкими, что сквозь них просвечивала блестящая кожа, усеянная коричневыми пятнышками.
Мне он был неприятен — но не из-за внешности, которая казалась мне интересной, а потому, что я считал его грубым и его манера выражаться смущала меня.
Как-то раз он сказал сестре:
— У меня сегодня кишки не опорожнялись, сестра. Это не опасно?
Я быстро посмотрел на нее, чтобы увидеть, как она воспримет эти слова, но она и бровью не повела.
Его постоянные жалобы раздражали меня — по моему мнению, ему хоть изредка для разнообразия следовало бы говорить, что он чувствует себя хорошо.
Иногда Мик спрашивал его:
— Как здоровье, Папаша?
— Хуже быть не может.
— Ну, пока ты еще не умер, — весело говорил Мик.
— Умереть-то не умер, да только по тому, как я себя чувствую, это может случиться в любую минуту. — Папаша мрачно покачивал головой и отъезжал к постели какого-нибудь новичка, которому еще не успели надоесть его причитания.
К старшей сестре он относился с почтением и старался не вызывать ее неудовольствия; объяснялось это главным образом тем, что в ее власти было отправить его в приют для престарелых.
— А в таком заведении долго не протянешь, — говорил он Энгусу, — особенно если ты болен. Раз ты человек старый и больной, то правительство наше так и норовит от тебя избавиться, и как можно скорее.
Поэтому, разговаривая со старшей сестрой, он всячески старался задобрить ее и внушить ей, что страдает множеством недугов, которые оправдывают его пребывание в больнице.
Однажды, когда она спросила его, как он себя чувствует, он сказал:
— Сердце у меня в нутре мертвым-мертво, как у дохлого барана.
Я сразу же представил себе колоду мясника, а на ней влажное, холодное сердце, и мне стало не по себе.
Я сказал Энгусу:
— Сегодня я себя хорошо чувствую, очень хорошо.
— Вот это дело, — ответил он. — Никогда не вешай носа.
Энгус мне нравился.
Утром при обходе старшая сестра спросила у Папаши, который подкатил свое кресло к камину, обогревавшему палату:
— Кто помял занавеси?
Открытое окно, на котором они висели, было возле камина, и легкий ветерок относил их к огню.