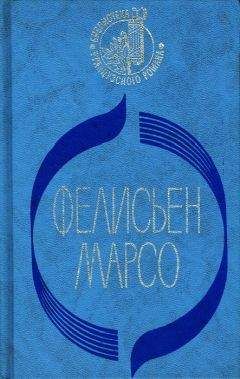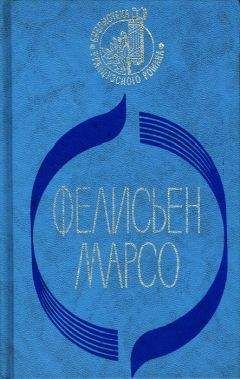Фелисьен Марсо - На волка слава…
И опять ничего! Ничего да и только. Можно, конечно, смеяться. Однако мне было не до смеха. Потому что моя навязчивая идея не покидала меня. Но ведь такая навязчивая идея, черт возьми, была не только у меня. Не я один испытывал это наваждение. Я его обнаруживал повсюду вокруг себя. Повсюду. Приятели в мастерской:
— Ну, старик, такую я деваху встретил, не поверишь.
Послушать их, так женщины на каждом шагу их поджидали.
В кино, например: входит мужчина в бюро, наклоняется к машинистке, которую в первый раз видит, и дело в шляпе. Правда, то было в Америке. Или открываю книгу: «Мне было шестнадцать лет, когда молоденькая служанка…» Или моя кузина. Или дама с первого этажа. Я открывал газету: «Улицы Парижа, их соблазны.» Или шел в мюзик-холл, а там пели:
Однажды на бульваре Гулял я вечерком, И дамочка в муаре Сказала мне о том, Чтоб шел я к ней скорее: Том — том — том, Тебя я разогрею, Том — том — том.
Повсюду. Впору было предположить, будто люди только об этом и думают. Как если бы небо уже было бы и не небом, а огромным задом, повисшим над миром и медленно на него опускающимся. Как если бы все мы были в крепости, от которой у всех есть ключ. У всех. Кроме меня. Будто все думали только о своих гениталиях. За исключением именно тех женщин, к которым обращался я. Для других двери были широко распахнуты.
— Кстати, черт, сегодня вечером я непременно подцеплю девчонку.
Как если бы это было так легко. Как будто для этого достаточно было протянуть руку. И я тоже, глядя на остальных, устремлялся вперед: двери тут же закрывались. Почему? По какому сигналу? По какому признаку узнавали меня? По какому изъяну? Другим достаточно было почувствовать желание. «Сегодня вечером мне нужна женщина». И отправлялись искать. И непременно находили. А вот я — нет.
Так что и в этой области тоже я стал чувствовать себя отличным от других. Стал чувствовать себя одиноким. Не вполне нормальным. Прокаженным. Я был совсем один перед всем миром, где все происходило не так, как у меня.
Я напротив яйца. Хорошо закрытого своей скорлупой яйца, где мужчинам и женщинам достаточно было сделать всего один жест, сказать одно слово, чтобы найти друг друга, понять друг друга, соединиться друг с другом. Как это у них получалось? В течение стольких лет этот вопрос жестоко мучил меня: КАК ЭТО У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ? Они выходили на улицу. И находили женщину. Сразу же.
С жизнью на дружеской ноге. Когда у них женщина спрашивала, который час, то она это делала не для того, чтобы узнать время, а для чего-то другого. Но почему? Почему у них, а не у меня?
— А я ей говорю: пойдем, прогуляемся?
— О'кей, — отвечает она.
Все как по нотам. А я? Как у меня в такой же ситуации? Прогуляемся? И они посылали меня погулять. Говорили, что гулять полезно для здоровья.
И я стал лгать. Как другие. (Но я тогда еще не знал, что другие лгут.)
— Ну что, Эмиль, все еще в девственниках ходишь?
— Скажешь тоже!
— А ну, расскажи.
И я рассказывал все, что приходило мне в голову. Но в душе-то — отчаяние. Я постоянно задавал себе вопрос: как это у них получается? Как это они умудряются заниматься в самом деле тем, что я вынужден выдумывать. Выдумывать, как последний дурак. Занятый этим сочинительством, я даже и не помышлял задать себе вопрос, не лгут ли и они тоже. Ни на миг не задумывался о том, что в тот же самый миг, когда я рассказывал, может быть, кто-то другой в мастерской задавал себе такой же вопрос, говоря себе: «Как? Даже вот Мажи достаточно протянуть руку. Хотя у него такой дурацкий вид. А что же я?» Потому что именно это и есть система. В этом и состоит сила системы. Дело в том, что каждый из нас постоянно укрепляет ее своей ложью. Потому что, ТЕПЕРЬ-ТО я знаю, что все это ложь. Потому что теперь мне известно, что все это — не что иное, как изображение мира, которое люди держат перед собой и протягивают друг другу, и что это ЛОЖНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Вернее, не то чтобы ложное само по себе, а ложное как система, ложное как картина, в НЕПРЕМЕННОЙ достоверности которой нас хотят уверить. Вот в чем состоит в данном случае ложь. Не противоположность истины, а такое ее искажение, когда вероятное представляют как неизбежное, а среднестатистическое — как принцип. Я ясно выражаю свои мысли? Это как: мужчина, женщина, постель. Не вызывает сомнения, что в девяти случаях из десяти итог будет: любовь. Но это будет неправильный итог, потому что остается еще десятый случай, такой же правдоподобный, такой же нормальный, и, следовательно, имеющий право на существование. Я не говорю, что мои приятели лгали, когда рассказывали, как легко они находят женщин. Я говорю, что они лгали, не упоминая о всех тех, которые посылали их подышать свежим воздухом. Потому что, не упоминая о них, устраняя эту возможность, они тем самым всякий раз укрепляли систему, укрепляли тот образ мира, в котором достаточно пожелать женщину, чтобы тут же заполучить ее. Это образ мира, в котором люди, похоже, только об этом и думают, тогда как на самом деле три четверти времени они думают о других вещах. Да, это не ново. Уже в античности, как я выяснил из книг, люди напридумывали целую ораву богов, которые жили, как они, но только на более широкую ногу, легче и привольнее. Система — это наша мифология. Вы хотите женщину? Нет ничего легче. Пройдите по улицам и вы должны ее найти. Вы ДОЛЖНЫ — система. К тому же, заметьте, фраза, где говорится про то, что кто-то что-то должен, в девяти случаях из десяти принадлежит системе. Принцип вместо реальности. Я ДОЛЖЕН был найти. Трудность состояла в том, что я не находил.
Я знаю, что я был невзрачным, не умел подойти к женщине, знаю, что нужно было настаивать. Все так. Но именно поэтому. Что следует думать о системе, где это зависит от формы моего носа или от моей фразы, будет эта система функционировать или нет. Разве это серьезно? А где гарантия? Женщины посылали меня подышать свежим воздухом. Разве я был чудовищем? А ведь я считал себя именно таковым. И страдал от этого. Теперь-то я понял, что, скорее всего, им просто не хотелось. Или они спешили. Или не думали об этом, отвечали нет, не успев как следует подумать. Это все то, о чем система умалчивает. Согласно системе, любая женщина ожидает только любви. Но вы думаете, та моя дамочка на скамейке в сквере ждала любви? Якобы любая женщина чувствует себя польщенной, когда ей делают авансы. А та, которая в метро показала мне язык, вы полагаете, она была польщена? Не говоря уже о тех днях, когда женщина, даже желая заняться любовью, не смогла бы сделать этого по объективным причинам. Короче, есть много разных причин. Они обнаруживают себя, надо прямо сказать, достаточно регулярно. И влияют на события. Но только не в анекдотах. И не в фильмах. И не в романах Шампьона. Уже по этим деталям можно судить о степени достоверности всего остального. Ну и еще я был, наверное, к тому же очень неловок. Будь я пообходительней, и те же самые женщины, может быть, согласились бы. Разумеется. И при этом ни они, ни я ничуть бы не изменились. Мы оставались бы теми же самыми людьми. Разница состояла бы лишь в том, что мы позанимались бы любовью. А раз так, то где во всем этом логика? Где необходимое следствие? Неизбежный итог? Ситуация оказалась бы совсем иной, вот и все. Ситуация складывается или не складывается — вот оно, серьезное правило, ключ ко всему. А все остальное — это система. Полуложь, покоящаяся на полуправде.
ГЛАВА VII
Сегодня утром почтальон принес мне журнал со статьей, к сожалению, очень короткой, посвященной ДЕЛУ МАЖИ. Мой портрет, портрет моей жены, портрет Дюгомье. Статья довольно интересная, но, разумеется, не по существу. Впрочем, оно и хорошо. Хотя, в некотором смысле, это тоже раздражает. И слишком уж короткая. Я повторяю: СЛИШКОМ короткая. Я показал номер своим коллегам.
— Мой бедный друг, — сказал мне Тюфье. — Нужно было бы запретить надоедать… в общем, преследовать…
Вероятно, слово «надоедать» показалось ему недостаточно звучным в такой ситуации.
— Не давать человеку покоя с этими… Напоминать снова и снова о том, что случилось.
Вот такого рода замечания мне приходится выслушивать от людей, которым никто и никогда не посвятил ни одной статьи и которые вмешиваются… Хотя, несмотря на неточности, статья привела меня в восторг. Но я с подавленным видом кивнул в знак согласия. Я надеялся воспользоваться ситуацией, чтобы сбагрить этому Тюрье одну очень скучную работу. Но он заартачился.
— Но, послушайте, Мажи…
Сердце людей так ограничено в своем великодушии. Ну да ладно!
Вот сейчас я говорил о своей невинности и о том, как меня это мучило. Но все же не будем преувеличивать. По истечении какого-то времени я все-таки ее потерял, свою невинность, и случилось это 12 декабря 1926 года между девятнадцатью часами десятью минутами и девятнадцатью часами двадцатью минутами в гостиничном номере на улице Жермен-Пилон. Я называю точную дату, потому что хорошо ее помню. Однако я испытываю в связи с этим чувство досады, потому что это показывает, до какой степени и в течение какого времени я был пленником системы. Настоящим пленником. Даже память моя находилась в плену. Потому что, согласно системе, это событие имеет определенное значение. Причем немалое. Это совершенно точно: попросите человека рассказать о своей молодости, и среди прочего он непременно помянет и данный инцидент, даже с некоторыми подробностями. Как если бы это было Перу. Может быть, ДЛЯ НИХ это так и есть, я не знаю. Но я хочу сказать, что для меня этот эпизод не имел никакого значения. И если я вспомнил дату, то произошло это из-за явного подчинения системе. Потому что, сколько бы я ни рылся в памяти, я не могу обнаружить никаких следов влияния этого эпизода на мою жизнь. Я не вижу, что это происшествие изменило в моей жизни. Случилось, ну и случилось, и больше я об этом не думал. Во всяком случае, если и думал, то гораздо реже, чем, например, о женщине в метро, которая показала мне язык. Серьезно. Мне возразят: как, женщина, которая вам просто отказала? Простите. Женщина всегда остается женщиной. Предположим, проходят две женщины, одна говорит — да, другая говорит — нет. Почему одной из них нужно придавать больше значения, чем другой? Потому что одна из них входит в вашу жизнь, а другая — нет. Но, если говорить по существу, почему открытая дверь важнее закрытой двери? Она не захотела? Но как раз это-то и важно. И, в частности, женщина в метро. Надо же додуматься: показать мне язык с такой ненавистью, с таким отвращением, с таким исступлением, с таким, я бы даже сказал, наслаждением — это все-таки нечто необычное. Вам, например, не кажется, что, возникни у меня вдруг с ней связь, я мог бы очень сильно измениться? Может быть, стал бы, я уж не знаю кем: гангстером, грубияном, маньяком. И поэтому ее ОТКАЗ обретает особое значение, вы не находите? Ведь она же взяла при этом на себя некоторую ответственность. Не говоря уж о том, что, показав мне язык, она преподала мне жизненный урок. Продемонстрировала свою ненависть. Именно ненависть, другого слова тут и не подберешь. Как если бы я надругался над ее ребенком в ее животе. Имей она возможность убить меня, она бы сделала это. Неужели вы считаете, что это не имеет значения? Узнать, до какой степени тебя могут ненавидеть? Разве это не важнее так называемой любви? Да и вот доказательство: ту женщину с высунутым языком я вспоминаю до сих пор. Я и сейчас еще вижу перед собой ее лицо, жирное, одутловатое, как у негритянки. И в то же время я совершенно забыл, как выглядела женщина, которую я встретил 12 декабря на улице Жермен-Пилон. Абсолютно забыл! Хоть убейте меня, я не смогу сказать, как ее звали. Впрочем, я не помню, говорила она мне свое имя или нет. Это было в метро. Служащий закрыл у нас перед носом дверь, прямо перед носом, хотя мы явно еще бы успели пройти.