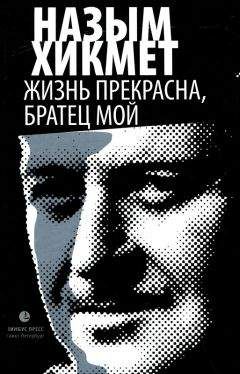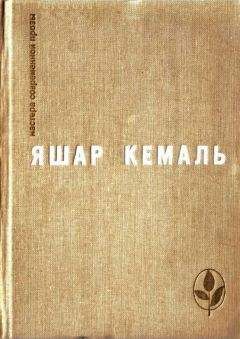Стив Сем-Сандберг - Отдайте мне ваших детей!
— Теперь, оказывается, даже мертвецам приходится стоять в очереди, — заметил он.
Сегодня в Марысине минус двадцать один градус, пояснил господин Морский; эту информацию он получил от господина Юзефа Фельдмана, уважаемого и пользующегося доверием члена его предприятия. Утром они получили из города двенадцать новых мертвецов. Его гроберы, как всегда, честно рубили землю тяпками и ломами, но не смогли одолеть даже верхний слой.
— Так чего вы от меня хотите? — нетерпеливо повторил председатель.
Но господин Морский уже полностью погрузился в свои проблемы и не слушал.
— Пришлось их поставить, — сообщил он. — Если хоронить трупы стоймя, а не складывать штабелем, они занимают меньше места.
Терпение у председателя лопнуло. Он протолкался через море работавших не покладая рук телефонисток и машинисток, рванул входную дверь и велел Куперу немедленно подавать коляску. Путь на улицу Якуба был недолгим. Господин Вишневский уже ждал в дверях, потирая руки — то ли замерз, то ли ощутил себя значительным при мысли о том, что господин председатель, бросив все, прилетел в его мастерскую.
Забастовавшие швеи послушно сидели за рабочими столами, выжидательно глядя на господина председателя.
ВИШНЕВСКИЙ: Я побил их.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Простите?
ВИШНЕВСКИЙ: Я побил их палкой. Во всяком случае, тех, кто не желал работать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Любезнейший господин Вишневский, я не понимаю, с чего вы взяли, что вольны делать такие вещи. Право бить есть только у меня!
Пылающие ли красные уши Давида Вишневского стали тому причиной, то, как женщины прыскали, зажимая рот ладонями, или странная атмосфера, царившая в выстуженном помещении, где коричневая форма вермахта шеренгами маршировала вдоль задней стены (на коричневых манекенах, одно только туловище — без рук, ног и головы; зато все маршируют!), но на старика вдруг словно снизошло вдохновение, и не успел никто и слова сказать, не успел никто подать руку или подставить локоть, как председатель взобрался на один из шатких столов и, потрясая кулаком, произнес речь — совсем как те агитаторы-социалисты, которых он недавно осуждал; и речь, которую он произнес в эту минуту, потом везде и всеми была признана одной из его самых вдохновенных речей.
— Вы первые осудите меня, женщины, — наверное, вы на стороне тех, кто агитирует против меня! Но скажите честно: что бы вы подумали обо мне, если бы знали, что я благодетельствую двум-трем человекам в гетто, заставляя остальных работать за рабскую плату?..
Каждый миг я думаю только о благе для гетто. Спокойствие, порядок на рабочих местах — наше единственное спасение!..
(Позор тем, кто думает иначе!)
Разве вы не знаете, что все мы работаем на немецкую армию; вы хоть на мгновение задумывались об этом? Что, по-вашему, будет, если в эту минуту — вот сейчас, когда я говорю эти слова, — сюда ворвутся немецкие солдаты и под дулом автоматов погонят вас на сборный пункт, чтобы потом депортировать?
Что вы скажете своим несчастным родителям, своим мужьям, своим детям?..
(Женщины сгорбились за рабочими столами словно в окопах.)
С этого дня я запрещаю работу в этой и в любой другой мастерской гетто, где будут иметь место травля и подстрекательство.
ГОСПОДИН ВИШНЕВСКИЙ, ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТНИЦЫ БЫЛИ НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕДЕНЫ ОТСЮДА. ОПЕЧАТАЙТЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ!
Пайки не выдавать. Отобрать у всех бастующих удостоверения и трудовые книжки.
Поразмыслите хорошенько: то, что служит интересам гетто, служит и вашим интересам. Когда вы осознаете это, вас с радостью примут на старое место работы. Но не раньше!
Забастовщики продержались шесть дней.
30 января Румковский велел официально объявить: ворота фабрик снова открыты для тех, кто обязуется работать на существующих условиях. Все бастовавшие вернулись на свои рабочие места, и на этом история могла бы закончиться.
Но не закончилась.
Через два дня после прекращения забастовки, 1 февраля 1941 года, Румковский нанес ответный удар. В еще одной речи, на этот раз произнесенной перед resort-laiter’ами гетто, он объявил о своем намерении депортировать из гетто всех «возмутителей спокойствия и вредителей»,[6] если будет доказано, что эти люди принимали участие в забастовке. В списке из 107 человек, составленном в тот же день, оказалось чуть больше тридцати рабочих из мебельной мастерской на Друкарской и столько же — с Ужендничей.
Одним из «уволенных», в тот же день оставившим мастерскую на Друкарской, был тридцатилетний столяр-краснодеревщик Лайб Жепин.
Лайб Жепин принимал участие в забастовке, был даже одним из тех, кто забаррикадировался на втором этаже и швырял в полицейских что под руку подвернется.
Но имя Лайба Жепина не попало ни в один депортационный список.
8 марта 1941 года — в день, когда гетто покинул первый транспорт с высланными, — Лайб Жепин приступил к работе на мебельной фабрике Винограда, на Базаровой. Возле длинного верстака, у которого он стоял со своими инструментами, всё замирало. Никто не поднимал глаз, никто не решался взглянуть в лицо предателю.
С этого дня измена отбрасывала длинные тени по всему гетто, отныне еврей был против еврея; ни один рабочий не был уверен, что завтра не лишится своего удостоверения и его не депортируют — это было нечто иное, чем сохранять за собой право на хлеб насущный. Хаим Румковский знал, о чем говорят люди. В своей речи перед resort-laiter’ами он сказал, что никогда не давал больше, чем мог дать. Но сам факт, что он давал, обеспечивал ему право брать. Брать у больных, беззащитных людей, впустую проедавших хлеб, на который имели право все.
Я, сказал он, стою двумя ногами на земле.
~~~
Итак, в высших инстанциях было решено: все в гетто должны работать.
Каждый, зарабатывая себе на жизнь, служил всему гетто.
Однако в гетто было множество людей, наплевавших на общее благо и добывавших средства к существованию самостоятельно. Иные из них рылись в поисках угля позади печи для обжига кирпичей, на углу Дворской и Лагевницкой. На задний двор годами выбрасывали всякий мусор. Иногда требовалось несколько часов, чтобы дорыться до угольного слоя. Сначала приходилось копаться в полусгнившей ботве и других отбросах, разлагавшихся под пеленой злобно жужжащих мух; потом шли несколько слоев сырого песка и глины, напичканных ранившими руки осколками фаянса и щепками.
Среди дюжины копавшихся здесь детей были братья Якуб и Хаим Вайсберги с Гнезненской улицы. Якубу было десять лет, Хаиму — шесть. Они орудовали тяпками, лопатой, но рано или поздно им приходилось рыть руками. Тогда широкие джутовые мешки, закинутые за спину, соскальзывали вперед и повисали на животах, так что оставалось только совать туда вожделенное черное золото.
Теперь мало кому случалось найти уголь прямо в обжиговых печах. Но если повезет, можно было отыскать обломок дерева, тряпку или еще что-то, на чем осело немного угольной пыли. Брошенная дома в печь, такая тряпка давала огонь, которого хватало по меньшей мере часа на два, — хорошее, ровное и устойчивое пламя; за такую тряпку на рынке Йойне Пильдер платили не меньше двадцати-тридцати пфеннигов.
Якуб и Хаим обычно работали в команде с двумя братьями из соседнего двора, Феликсом и Давидом Фридманами; однако никакой гарантии, что им дадут покопаться спокойно, не было. Случись нескольким взрослым, которые тоже охотились за углем, оказаться рядом — и мальчишки в мгновение ока лишались своих мешков с добычей. Поэтому они скинулись и наняли Адама Жепина охранять их.
Адам Жепин жил этажом выше Вайсбергов и в районе Гнезненской улицы был известен под кличкой Адам-урод или Адам Три Четверти — из-за носа, который выглядел так, словно Адам сломал его при рождении. Сам он объяснял это тем, что мать дергает его за нос за вранье. Все знали, что это неправда. Адам жил с отцом и умственно отсталой сестрой; никакой госпожи Жепин в их квартире не видели.
Из первого года в гетто Адам запомнил только голод — вечно ноющую рану в животе. Одной охраны юных золотоискателей явно не хватало, чтобы избавиться от этой мучительно ноющей раны. Поэтому, когда Моше Штерн в очередной — редкий — раз проходил мимо печи для обжига кирпичей и спросил Адама, не может ли он сбегать по его поручению, тот с благодарностью согласился, бросив своих подопечных на произвол судьбы.
Моше Штерн был одним из многих тысяч евреев, которые, когда гетто закрылось от внешнего мира, сколотил состояние на торговле топливом. Отцы семейств, послушные чувству долга, пытались устраивать склады угля или угольных брикетов, пряча сокровища в разных подходящих для этого местах. Тайники часто взламывали — и черное золото возвращалось на рынок. Еще можно было заработать деньги на продаже древесины попроще, вроде старой мебели, кухонных шкафов с выдвижными ящиками, оконных реек или половых досок, перил и всего, что можно распилить и связать в вязанки. Цена на такие вязанки падала в летнее время года примерно до двадцати пфеннигов за килограмм, зато с приближением зимы подскакивала до двух-трех «румок». Иными словами, надо было набраться смелости и дождаться спроса. Зимы становились все холоднее, добыть уголь было неоткуда, и люди жгли в буквальном смысле то, на чем сидели и лежали.