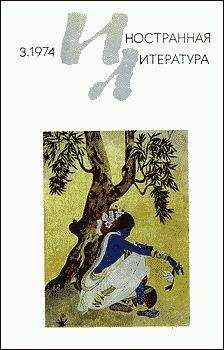Филип Рот - Она была такая хорошая
Но тут боль притихла, словно вода, кипящая на медленном огне. Нет, это не рак. Это всего лишь его застарелый ишиас.
Но чего он ждет тут, на кладбище? Плечи его куртки совсем занесло снегом, так же как и носки ботинок. Первые зимние блестки сверкали на дорожках и плитах кладбища. Ветер затих. Был темный холодный вечер… Да, сэр, подумал он, теперь он будет повнимательнее с этим ишиасом. Пошутили, и хватит. А то ведь можно и такую шутку выкинуть: взять и забраться на месячишко в кресло на колесиках и раскатывать, пока не отойдут ущемленные окончания нервов. Два года назад доктор Эглунд посоветовал ему это, и, кто знает, может, идея эта была не так глупа, как ему тогда показалось. Долгий заслуженный отдых. Накрыть колени теплым шарфом, пристроиться в приятном солнечном уголке с газетой, приемником и трубкой, и что бы там ни происходило в доме, его это не касается. Он будет думать о своем ишиасе и только. И ведь никто не может отрицать, что в семьдесят лет у него есть все права выкатиться на колесиках в другую комнату…
Или вот что еще: он может притвориться, что плоховато слышит. Сделать вид, будто стал туг на ухо. Кто догадается? Да, это тоже хороший способ покончить со всеми затруднениями. И кресло не понадобится! Надо только смотреть пустыми глазами, пожимать плечами да отходить в сторону. Вдобавок можно несколько месяцев попритворяться, что понемногу впадаешь в детство. Да, сэр, пусть они обходятся без него. Добро пожаловать в дом, обосновывайтесь на время, он согласен, ну, а в остальном… У него, видите ли, голова плохо варит. Может быть, чтобы им стало понятнее, ему стоит начать — нарочно, естественно, и постоянно отдавая себе отчет в том, что он делает, и так, конечно, чтобы не перепадало Берте, — может быть, ему стоит начать (как это, увы, уже по-настоящему началось с его приятелем Джоном Эрвином) мочиться в постель?
Но зачем? Зачем впадать в детство? Зачем притворяться, что рехнулся, когда ты в здравом уме? Он вскочил на ноги. Зачем сидеть здесь и мучиться, да еще с риском подхватить воспаление легких, когда я делал только добро? Страх смерти, пугающей, ненавистной смерти, заставил его плотно закрыть глаза. «Да, я делал добро! — крикнул он. — Добро людям!» И зашагал вниз по склону, стряхивая снег с куртки и кепки. А ноги, больные старые ноги, со всей быстротой, на какую они еще были способны, уносили его прочь от кладбища.
Только свернув с дороги, ведущей к Кларкс-Хиллу, под уличными фонарями Саус-Уолтер-стрит, он почувствовал, что сердце стало биться более или менее нормально. Да, вновь началась зима, но это вовсе не значит, что ему уже никогда не увидеть весны. Он еще поживет. Он и сейчас жив! Так же как все, кто расхаживал по магазинам и ехал навстречу ему в машинах — гнетет их что-нибудь или нет, они живут! Живут! Мы все живем! Так что же он делал там, на кладбище? В такой час, по такой погоде! Прочь, долой эти болезненные, мрачные, лишние мысли. Ему есть о чем подумать, и не всегда о плохом, между прочим. Хотя бы о том, как развеселится Уайти, когда услышит, что дом, в котором помещался «Погребок Эрла», развалился сверху донизу посреди ночи. Развалился, словно сам накликал на себя такую кару, и его тут же снесли. И что с того, что в «Таверне Стенли» теперь новые хозяева? Уайти презирал грязные притоны, как и всякий другой человек, когда владел собой, а это бывало гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. И вряд ли так уж хорошо — выкапывать из прошлого только самые неприглядные случаи. Этак любого человека можно возненавидеть, если выискивать в нем лишь дурные черты… И потом Уайти еще не видел нового торгового центра, пусть-ка прогуляется по Бродвею — они пойдут вместе, конечно, и Виллард покажет ему, как перестроили «Клуб Лосей»…
«О, черт! Парню уже под пятьдесят, ну, что я еще могу для него сделать? — Въезжая в город, он уже говорил вслух. — В Уиннисоу его ждет работа. Такая, о какой он говорил, какую хотел, о какой просил. Ну, а то, что он снова будет жить у нас, — так это ведь временно, лишь временно. Поверь, я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Значит, мы решили — до первого января… Ну, послушай, — обращался он к мертвой, — я ведь не бог! Не я сотворил этот мир! Я не могу предсказать будущее! К черту все это — он ее муж, она его любит, нравится это нам или не нравится!»
Вместо того чтобы поставить машину за магазином Ван Харна, он подъехал к главному входу — отсюда дольше идти до зала ожидания, так что у него будет лишние полминуты для размышлений. Похлопывая о колено мокрой кепкой, он вошел в магазин. «А скорее всего, — подумал он, — скорее всего его тут и нет. — Не заходя в зал, он попытался заглянуть внутрь. — Скорее всего я просто зря проторчал там, на кладбище. В конце концов, видно, у него не хватило духу приехать».
И тут он увидел Уайти. Он сидел на скамье, уставясь на свои ботинки. Его волосы совсем поседели. И усы тоже. Он то и дело перекладывал ногу на ногу, и Уиллард видел подметки его ботинок — совсем гладкие, не успевшие потемнеть. Маленький чемоданчик, тоже новый, стоял рядом с ним на полу.
«Итак, — сказал Уиллард себе, — он приехал. Все-таки сел в автобус и приехал. После всего, что произошло, после всех несчастий, которые он причинил, у него хватило наглости, сесть в автобус, а потом выползти из него и сидеть полчаса, надеясь, что за ним явятся… Ах ты идиот! — подумал он и, стоя у входа, в ярости вглядывался в своего пожилого зятя, в его новые ботинки его новый чемоданчик. — Как же, как же, перед вами новый человек! Ты, тупая башка! Ты, хитрый враль, ворюга безграмотный! Ты, жалкий, спившийся балбес, пиявка, сосущая кровь из всех окружающих! Ты, тряпка несчастная! Что из того, что ты ничего не можешь с собой поделать! Что из того, что ты не хочешь никому зла…»
— Дуайн, — сказал Уиллард, делая шаг вперед, — ну, здравствуй, Дуайн!
Часть вторая
Когда летом 1948 года Рой Бассарт вернулся с военной службы, он не знал, чем ему заняться, и поэтому целых полгода сидел себе да слушал, что люди об этом скажут. Он заваливался в глубокое мягкое кресло в дядюшкиной гостиной, но тут же его длинная костлявая фигура сползала — и чтобы пройти по комнате, приходилось перешагивать через армейские башмаки, гольфы и брюки цвета хаки, что часто проделывали во время его визитов кузина Элинор и ее подружка Люси. Он сидел неподвижно, засунув большие пальцы в пустые брючные петли и уронив подбородок на хилую грудь, а когда спрашивали, слушает ли он — ведь это к нему обращаются, — лишь кивал, не отрывая глаз от пуговиц на рубашке. А не то поднимал веселое открытое лицо, освещенное голубыми, ясными, словно день, глазами, и смотрел на собеседника сквозь рамку из пальцев.
В армии у него открылся талант к рисованию — особенно удавались ему портреты в профиль. Рой отлично изображал носы (чем крупнее, тем лучше), хорошо — уши, волосы, а иногда подбородки, и вдобавок купил самоучитель, чтобы научиться рисовать губы, которые у него не получались. Он даже начал подумывать: а не пойти ли еще дальше и не стать ли профессиональным художником? Дело, конечно, не простое, но, может, как раз и настала пора взяться за что-нибудь трудное, а не хватать, что поближе да полегче.
В конце августа, едва заявившись в Либерти-Сентр, он объявил родным об этом своем намерении. Но не успел он опустить мешок на пол гостиной, как посыпались возражения.
Можно подумать, что он мальчишка и вернулся из летнего лагеря, а не с Алеутских островов. И если в армии он успел забыть, каково ему жилось в последний школьный год, Ллойд и Элис Бассарт в полчаса освежили его память. Спор, затянувшийся до бесконечности, сводился к тому, что родители говорили, какой у них — не в пример Рою — жизненный опыт, а Рой козырял тем опытом, который был у него, а у них не было. В конце концов, сказал он, не грех посчитаться и с его мнением, ведь речь как-никак идет о его будущем.
И чтобы поставить точку, он на целый день засел срисовывать женский профиль со спичечной коробки. Позволив себе оторваться лишь на завтрак, он вновь и вновь делал эскизы и только в конце длинного рабочего дня, проведенного взаперти, почувствовал, что время прошло не даром. После обеда он извел три конверта, прежде чем остался доволен своим почерком, и отправил рисунок в художественную школу в Канзас-Сити, штат Миссури, проделав путь через весь город до почтамта, чтобы письмо успело уйти с вечерней почтой. Но когда он получил ответ, в котором мистера Роя Баскета извещали, что он прошел по конкурсу и получит пятисотдолларовый курс заочного обучения всего лишь за сорок девять долларов пятьдесят центов, он был склонен согласиться с дядей Джулианом, что это просто-напросто какая-то лавочка, и прекратил переписку.
Так или иначе, а он им доказал, что хотел, и тут же, с первой попытки. Когда его на два года призвали в армию, отец сказал: он, мол, надеется, что военная дисциплина будет способствовать возмужанию его сына. Выходило, что отец с этим делом не справился. И Рой действительно возмужал, даже слишком. Но дисциплина здесь была ни при чем. Все дело, сказать по правде, было в том, что родители были далеко. Да, в школе он тянулся кое-как на тройки и тройки с минусом, хотя стоило ему лишь чуть-чуть приналечь («А ведь у тебя есть способности, Рой», — говорила мать), и он мог бы, если бы захотел, учиться на твердые четверки или даже на пятерки. Но теперь пора заявить: он больше не троечник, и нечего с ним обращаться как с троечником. Уж если ему работа понравится, он наверняка с ней справится, и не как-нибудь, а хорошо. Вопрос только в том, на чем остановиться. В двадцать лет он и сам понимает без всяких подсказок, что пора подумать о своем будущем. Он и сам достаточно размышляет над этим, будьте покойны.