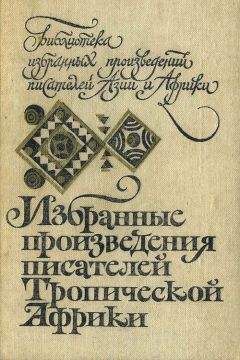Эрвин Штритматтер - Лавка
Своими нежными ручками мать сумела упорядочить наши отношения с Румпошем, потому что она знает толк в благородных манерах. Мать у нас превосходная женщина, но деревенская молва отводит ей лишь четвертое место по благородству. Первая по благородству — жена барона.
Баронесса пришла в лавку за покупками. Мой братец Хайньяк сидит на пороге, ловит муравьев и заставляет их лезть в трещину.
— Что ты делаешь, детка? — спрашивает баронесса сладким голосом.
— Не засти свет, старая мыша!
У нас к мыши приделывают хвостик из «а», по логике речи, человек, который говорит мышь, должен бы также говорить грушь и слив.
Войдя в лавку, баронесса жалуется, но мать берет сына под защиту:
— Ему ж только три года, госпожа баронесса. Перед ним еще вся жизнь за вычетом трех лет. Он еще подхватывает все, что ни услышит, госпожа баронесса.
— Вот как? — баронесса поджимает губы и задирает нос. Она пришла купить корицы. Мать протягивает ей пакетик. Нет, баронесса, оказывается, хочет не молотую, а в палочках. Мать достает из банки связку палочек. Нет, баронесса не желает брать корицу, которую мать трогала своими руками.
Мать протягивает баронессе открытую банку.
— Пожалуйста, госпожа баронесса, извольте выбирать, — говорит мать с вымученной любезностью.
Нет, оказывается, и это не годится. Невидимые бактерии могли переползти с материных рук на все палочки.
Мать боится потерять семейство барона как постоянную клиентуру, которая ежесубботне покупает десять грошовых булочек и еще кой-какую мелочь, она выходит из-за прилавка и приволакивает в кухню моего брата. Брат ревет, потому что его утащили как раз посередине эксперимента с муравьями. Но баронесса думает, будто мать отшлепала мальчика, теперь она готова помириться на пакетике с молотой корицей.
Как же можно после этого называть баронессу первой по благородству?
Вторая — это жена обер-штейгера. Мне кажется, будто лицо у нее все в зазубринах.
— Выдумаешь тоже! — говорит сестра. Мы здороваемся с женой обер-штейгера, но она редко нам отвечает, а даже когда ответит, на лице у нее не сверкнет ни искорки дружелюбия.
На прилавке стоят весы. Весы в магазине всего важней, говорит дедушка. «Весы решают, будешь ты с барышом али нет». Между чашками весов качаются вверх и вниз две чугунных утиных головки. Когда клювики целуются, значит, вес правильный. Обер-штейгерша достает из кармана пенсне, наклоняется к весам и, какую бы малость для нее ни взвешивали, проверяет, целуются носики или нет. «Подозрительность о двух ногах», — говорит дедушка. Так как же можно назвать ее второй по благородству?
Третья — это жена учителя. Мы с ней здороваемся, и она всегда отвечает. «Здравствуй, моя девонька», — говорит она мне, потому что она близорукая, но считает себя слишком молодой, чтобы носить очки.
Если учитель загуляет на всю ночь, утром ему неохота давать уроки, тогда к нам приходит госпожа учительница, а за ней в двери врывается целое водочное облако, котбусская очищенная. Учительша велит нам выучить наизусть шесть строф песни «Когда б мне тысячу голосов…», пока не протрезвится учитель. Ну как же можно назвать ее третьей, если она задает нам такую длиннятину.
В послевоенном девятнадцатом году, как и после любой войны, без которых немцы, судя по всему, просто не могут жить, продовольствия еще недостаточно. Недостаточные товары надо по справедливости распределить между деревенскими жителями. По этой причине каждый четверг вечером к нам приходят распределители и вершат справедливость.
— А зачем ее надо вершить, мама?
— Ну, ты и спросишь!
При оранжево-красном свете нашей керосиновой лампы с медной ножкой распределители составляют список. Моя мать по памяти знает, кому из жителей сколько причитается, но чего стоит голова слабой женщины рядом со списком, возникшим в головах четырех мужчин, которые вершат справедливость.
Эти четверо: общинный староста Коллатч, безземельный крестьянин Скрабак, горняк Карле Ракель и верноподданный монархист, он же деревенский каретник Шеставича. От них я узнаю, что всех жителей Босдома нужно разделить на группы. А для меня-то они все одинаковые. Но кто я такой? «Группы — это политическое деление, — говорит Карле Ракель, — а я представляю рабочий класс». Вот только говорит он это слишком часто. Остальные распределители не говорят, кого они представляют, но меня донимает любопытство, и отец объясняет: Шеставича представляет пангерманцев, их в нашей деревне не то двое, не то трое, но еще он представляет и тех, кто работает в имении. Скрабак представляет безземельное крестьянство, а Коллатч — государственную власть.
Справедливый список лежит между твердыми крышками огромной книги. В книге лежали когда-то кайзеровские рескрипты, но общинный староста выдрал их и сжег.
— Да как у тебе рука поднялашь? — укоряет его Шеставича. — Вот ужо вернетша кайжер, он тебе вшыпет по первое чишло.
Председатель молчит.
— Не совайся ты к нам со своим Вилли! — говорит Карле Ракель и хмурит лоб.
Спор у них идет о том, что лучше: кайзер или рейхспрезидент. Лично я ни с одним из них не знаком, но Вилли наверняка с утра пораньше щеголял в подусниках и потому выглядел смешно, а Эберт правит без подусников.
В деревне и на фольварке проживает пятьсот одиннадцать душ. Распределители часто вздыхают о том, что их не пятьсот двенадцать и не пятьсот двадцать. Попробуйте сами разделить двести семнадцать фунтов сахара на пятьсот одиннадцать едоков! Распределители считают и кряхтят, и у каждого получается другая цифра. Кличут на подмогу мою мать.
— Как вы сосчитаете, так и будет, — говорит Карле Ракель.
И у кого из распределителей результат совпадает с тем, который получился у матери, тот молодец.
Поступила селедка. Ее пересчитывают. Карле Ракель перевесился через край бочки и разговаривает с селедками.
— Есть тут кто живой? — спрашивает он.
Селедки помалкивают. Карле запускает руку в рассол. Оказалось, что в бочке есть еще одна селедка.
— Ты что же это спряталась и ни гугу? — укоряет ее Карле.
Итак, пятьсот тринадцать штук. Как быть с двумя лишними?
— Сами съедим! — предлагает Карле.
Коллатч и Скрабак отказываются есть невымоченную селедку. Зато Шеставича, представитель пангерманцев, не желает отдавать лишнюю селедку представителю рабочего класса.
— Щитай вше по шправедливошти, — говорит он и заглатывает свою долю.
Делят американское просо, красноватое такое.
Босдомцы варят его, едят, а потом маются животом.
— Американец хотит шкоренить гордую немецкую нацию, — говорит Шеставича.
— Об этом уже позаботился твой драгоценный кайзер, — отвечает Карле.
Ну прямо как в парламенте.
Коллатч, общинный староста, к тому же еще садовник и деревенский музыкант. Люди, которые причастны к искусству, как-то: цыгане, циркачи, артисты, пользуются особым расположением моей матери. Как ей стало известно, Коллатч играет первую скрипку в деревенской капелле. А мать до сих пор не может забыть того скрипача, который играл в городском кино серенаду Тоссели, когда шли фильмы про любовь с Хенни Портен. Она просит Коллатча в следующий раз принести с собой скрипку.
Коллатч приносит скрипку в деревянном ящике, который сильно смахивает на хлебницу. Мать разливает котбусскую очищенную, нам, детям, разрешено сегодня лечь попозже, чтобы мы послушали скрипку и стали образованней.
Коллатч весь день ковыряется в земле своего садоводства, пальцы у него заскорузлые и не могут производить те звуки, которых ждешь, когда имеешь в виду какую-нибудь определенную песню. Между звуками, из последовательности которых мы с помощью привычки собираем воедино наши песни, затесалась целая орава совершенно посторонних, и эти посторонние в свою очередь хотят заявить о себе во всеуслышание; общинный староста Коллатч своими непослушными пальцами помогает им обрести жизнь и таким путем делает решающий шаг на пути к музыке, носящей сегодня название современной. Трудно понять, что он играет, то ли «Вынем ножик, свет погасим», то ли еще что, но моя мать, долго не слыхавшая скрипку, млеет от удовольствия, слушая его беспомощную игру. Она начинает подпевать, отец вступает вторым голосом, вот уже и Карле гудит что-то голосом, который сам он выдает за бас. «Петр небо закрывает. Ангелочки почивают…» — поют они, а мы, дети, по мнению матери, наслаждаемся искусством.
Потом хор распределителей заводит: «Песнь неизменную слышу в шелесте старых дубов…»
Лично я не разделяю мнения господина Иоганна Гельбке, написавшего слова этой песни, но, как уже не раз бывало, никому об этом не говорю. Больно мне надо, чтобы меня обсмеяли! Песня о неизменном шелесте напечатана в песеннике певческого ферейна, а для взрослых, как я уже успел заметить, слово печатное куда весомей, чем мысли такого клопа, каким в их глазах являюсь я. Но все равно я остаюсь при своем мнении. Шелест дубов зависит от силы ветра и от возраста деревьев; количество веток и листьев, их расположение также радеют о том, чтобы песня дубов не оставалась неизменной, для того, конечно, кто наделен тонким слухом.